Страдай с толком
24 February 2024 20:18
Бессилие и сепарация
Любой человек, который хоть немного погружен в мир психологии, знаком с термином выученная беспомощность. Обычно он всплывает строго в определённой коннотации в связи с экспериментами Селигмана и темой депрессии. Селигман предложил идею, что именно выученная беспомощность приводит к психогенной депрессии (обращаю внимание, что речь не про эндогенную). Тем не менее, несмотря на то что выученная беспомощность упоминается практически только в этом контексте, внимательный читатель должен заметить, что что-то неладно в Датском королевстве, если какой-то феномен упоминается как строго отрицательный. Потому что в жизни не бывает ничего однозначно плохого – всё становится хорошим или плохим в зависимости от контекста. Между тем, положительное в выученной беспомощности есть, просто об этом не принято говорить.
Выученная беспомощность – это состояние, основанное на выученном отсутствии власти над каким-то источником страдания, в результате чего субъект перестаёт пытаться предпринимать какие-то усилия для того, чтобы от страдания избавиться. Обычно интуитивное суждение действительно рисует только мрачную картину. Это ведь это правда страшно: человек страдает и перестаёт что-то с этим делать. Между тем, есть ситуации, когда в наших интересах или в интересах другого человека, чтобы он перестал прикладывать усилия к тому, чтобы избавиться от какого-то источника страдания. Например, чтобы человек перестал пытаться наладить отношения, в которых уже ничего хорошего нет, или спасти другого человека, который не хочет быть спасённым. Если вы сравните сепарацию с выученной беспомощностью, вы обнаружите, что это один и тот же феномен. Просто по-разному описываемый.
В случае сепарации человек приходит к выводу, что некоторый источник страдания не в его власти и перестаёт прикладывать усилия к тому, чтобы его изменить. Принимает реальность такой, какая она есть, и всё, что он с ней может сделать, – это выстроить отношения как с данностью. Разница только в том, что когда человек перестаёт пытаться избавиться от неприятного звука (как в экспериментах), или когда собака перестает пытаться сбежать из той части клетки, где через пол пропускают электрический ток, то мы это воспринимаем как строго вредящее поведение. Но когда человек перестаёт пытаться спасти своего отца алкоголика или спасти отношения с созависимой женой - манипулятором или абьюзером, то ведь это же то же самое. И в этот раз это хороший феномен.
Настоящая подлинная сепарация так и происходит. Не отдаление, не создание дистанции между одним человеком и другим по принципу «сейчас я отстранюсь, он заметит, как ему без меня плохо, и прибежит обратно вымаливать прощение», не фейковая сепарация на обидках. Настоящая сепарация на злости, на желании отстраниться и уже окончательно прекратить попытки что-то сделать строится на ощущении бессилия и на том, что человек перестаёт верить в то, что у него здесь есть хоть какая-то власть. Он перестаёт считать, что может ситуацию исправить к лучшему, он перестаёт вкладывать бесполезные усилия, сдаётся и принимает эту реальность такой, какая она есть. Принимает другого таким, какой он есть, отношения такими, какие они есть. Если Васю не устраивает, какая Фёкла как человек или их совместные отношения, то он может больше с ней не общаться. Если устраивает, то он может с ней общаться в тех объёмах, в которых устраивает. Но он больше не будет пытаться её изменить, и делать вид, что у него есть какая-то власть в этой ситуации. Всё, он бессилен, и пора снять с себя ответственность за исправление этой ситуации к лучшему.
В этом смысле можно сказать, что депрессия – это сепарация от самого себя и собственной жизни. Здесь нам, конечно, издалека машет Фрейд с мортидо и нежеланием жить. Но нас это сходство не должно удивлять, потому что психика у человека одна, и разные методы описывают разными словами одни и те же механизмы. Просто депрессивный человек сепарировался от самого себя, а счастливый – от токсичных окружающих, использовав при этом одну и ту же механику, которая в разных случаях просто называется по-разному.
Читать полностью…
Страдай с толком
20 February 2024 20:18
Сожаление и фосфорные спички
Есть одно интересное мне наблюдение, но, если вы меня читаете, то, возможно, интересное и вам тоже. А именно: люди по-разному переживают упущение каких-то возможностей и какие-то утраты в зависимости от того, как они относятся к тем ресурсам, которые нужны были, чтобы эту утрату не допустить.
Например, если Вася опаздывает на важную встречу потому, что подбежал к закрывающимся дверям автобуса на секунду позже, чем они закрылись, то, вполне вероятно, Вася будет это сильно переживать, так как ресурс скорости, он считает, у него есть. Он от себя ожидает, что у него достаточно ресурсов, чтобы добавить немного себе скорости и на секунду быстрее покрывать дистанцию между домом и автобусной остановкой. Таким образом, все последствия того, что он не попал на автобус вовремя, – это лишь следствие того, что он не воспользовался имеющимся у него ресурсом.
С другой стороны, если тот же самый Вася не выигрывает миллион в игре «Кто хочет стать миллионером», потому что не называет правильно год открытия резерфордия, вполне вероятно, что Вася не будет так сильно переживать и, возможно, даже будет возмущаться составителями вопросов, потому что кто же составляет вопросы так, что надо знать, в каком году открыли резерфордий. Так произойдёт, потому что ресурса знания истории физики Вася себе не приписывает. Это приводит нас к интересному последствию.
Если человек страдает от каких-то упущенных возможностей и хочет избавиться от этого страдания, то ему полезно понимать, каких ресурсов ему не доставало, чтобы этого упущения не допустить, и насколько он на эти ресурсы претендует. И здесь в дело вступают фосфорные спички. Есть статья на Lesswrong, которую я периодически цитирую своим клиентам, суть которой состоит в следующем. Главный герой попадает в мир, в котором другие законы физики, что выражается в том, что фосфорные спички у него не зажигаются. И претензия со стороны сообщества Lesswrong состоит в том, что химические реакции, которые используются в поджиге фосфорной головки спички, используются в химии нашего тела тоже. То есть даже если мы представим, что это реалистичный сценарий, что человек попадает в параллельную вселенную, где другие законы физики, и там не зажигаются фосфорные спички, то в этой вселенной человек едва оказавшись, умирает, потому что его тело тоже там не работает.
Я это рассказываю для того, чтобы обратить внимание людей на то, что невозможно изменить какую-то одну небольшую вещь, не задействовав всё остальное. Психика – очень связная система. Если Петя упустил очень хорошие отношения, в которых он был, и, как ему кажется сейчас, по глупости саботировал в них успех, оттолкнул от себя девушку, то ему может казаться, что это полностью какой-то совершенно неимоверно глупый с его стороны поступок и абсолютное самоповреждение. Потому что все необходимые ресурсы у него уже были, всего-то и надо было ему здесь сказать лишний комплимент, тут промолчать и там не устраивать истерику. Но что Петя в этот момент не замечает – это то, чтобы всё это сделать, ему нужно было бы иметь совсем другую психику. Что он вёл себя так, как он себя вёл, потому что у него были те установки, которые были, и та психика, которая была, и та система отношений, которая была. Для того, чтобы эти мелочи изменить – тут сделать комплимент, там промолчать, там не предъявлять претензию – нужно было вообще быть другим человеком. Нужно было быть в других отношениях с родителями, по-другому относиться к себе, быть на другом уровне сепарации, на другом уровне осознанности и так далее.
И тут внезапно история о том, что «я по глупости несколькими мелочными поступками запорол прекрасные отношения», превращается в историю о том, что «мне не хватало фундаментальных ресурсов, я не просто тут не промолчал, там не сказал комплимент, а я был не на той стадии своего развития, я был не тем человеком, который мог вообще удержать эти отношения». Это совершенно другое отношение к потере. Совершенно другая эмоциональная реакция. Возможно, в некоторых случаях гораздо более полезная.
Читать полностью…
Страдай с толком
13 February 2024 20:18
Постсимптомная атрофия
Любой человек, проведший достаточное количество времени в гипсе, знает, что, если мышцами не пользоваться, они начинают атрофироваться. Если вы пролежали целое лето с гипсом на ноге, то, когда гипс снимут, нога будет худее и значительно слабее той, что была без гипса. Это никого не удивляет.
По какой-то причине при этом люди очень удивляются, когда то же самое происходит с психикой. Другой способ об этом сказать – это обратить внимание на то, что есть причина, почему про психологов ходит столько неприятных мифов и стереотипов. Что якобы психологи запудривают мозги, портят клиентам жизнь, ссорят людей с близкими и окружающими и так далее. Это не совсем неправда, и дело не только в сепарации от родителей. Хотя, конечно, это играет огромную роль в этой мифологии. Но ещё дело и в том, что психологи, сволочи такие, избавляют клиентов от симптомов, которыми они пользовались вместо своих собственных личностных черт.
Вот есть Вася, и Вася, знаете ли, мудак. Вася никогда в жизни ни одного хорошего дела не сделал. У Васи нет ни ценности чужих эмоций, ни навыка обращать на них внимание, ни желания всё это прорабатывать. А нет у него желания это делать, потому что в реальности у него нет репутации мудака, а репутации нет, потому что там, где у нормальных людей эмпатия, сочувствие и доброта, у Васи – тревожная потребность гиперопекать окружающих. Он абсолютно не сочувствует людям, не является добрым и хорошим человеком. Единственная причина, по которой он прикладывает титанические усилия к тому, чтобы всем окружающим было хорошо, – это потому, что, если им будет не хорошо, то Васе будет очень тревожно. Вася воспитывался крайне истеричной и крайне агрессивной матерью, и он привык чувствовать ответственность за эмоции окружающих. Если рядом с ним кому-то плохо, то он наизнанку вывернется, чтобы этому человеку помочь. Чтобы не чувствовать себя тревожно, а не потому, что он хорошо к этому человеку относится.
В результате у Васи есть репутация очень хорошего человека. Если его друзьям сказать, что за этой симптоматикой Вася – редкостный мудак, они этому, как минимум, не поверят, как максимум – оскорбятся. Да и сам Вася об этом совершенно не в курсе. Поэтому, когда в ходе психотерапии этот симптом у него отваливается, и он перестаёт что-то делать из панической тревоги, что рядом с ним кто-то страдает, то оказывается, что Вася со всеми ссорится. Все привыкли к тому, что он всех опекает, а Вася более не собирается этого делать. Он и раньше не собирался, плевать ему было на чужие потребности. Но в попытке избавиться от тревоги он фактически их удовлетворял, чем вызывал у окружающих ложное впечатление хорошего отношения. А в отсутствие такой тревоги, или хотя бы научившись с ней совладать менее затратными способами, Вася начинает вести себя так, как всегда себя чувствовал: абсолютно не заинтересованным в чужих эмоциях. И не понимает этого, потому что он всю жизнь так себя вёл с поправкой на симптом.
Мысль, которую я пытаюсь донести, состоит в том, что естественные психические мышцы, личностные черты и навыки, которые должны быть там, где сейчас есть невротические симптомы, как минимум, атрофируются, как максимум – в случае если невроз давно и глубоко интегрировался личность – даже не развиваются. Вполне возможно, что после того, как симптом отвалится, человек окажется дефицитарным, и отношения его посыплются из-за того, что он не умеет какие-то базовые вещи, отсутствие которых он замещал своим симптомом.
Поэтому при прохождении долгосрочной терапии, особенно динамической, надо быть готовым не только к неприятным открытиям про себя и конфликтам с окружающими, но ещё и к тому, что, помимо избавления от каких-то симптомов, некоторые черты и навыки придётся отращивать буквально с нуля.
Читать полностью…
Страдай с толком
08 February 2024 20:18
Психодинамика
Есть у меня ощущение, что эта мысль должна быть уже достаточно очевидна из-за всей массы текстов, которые в этом канале присутствуют, но, как психодинамист, я всегда за то, чтобы делать всё максимально явным и называть вещи своими именами.
В частности, сейчас я хочу очень конкретно обозначить, что динамика, то есть динамика психических процессов, выглядит не так, как большинство её себе представляют. Большинство думает о психодинамике как о каких-то амплитудных переживаниях и размашистых поступках. О том, что человек бьёт посуду, ссорится с окружающими, обвиняет родителей и так далее. И это всё понятные ассоциации. Понятно, что в процессе психодинамической терапии и консультирования все эти вещи происходят, и понятно, почему люди так думают. Но именно эти вещи, которые находятся снаружи от черепной коробки, – не сама психодинамика, а её следствия.
Дело в том, что каждый психотерапевтический подход, каждая большая школа психотерапии начинается с ответа на вопрос «что такое человек?». Бихевиористы говорят, что человек – это животное, которое надо дрессировать. Когнитивисты говорят, что человек – это компьютер, который надо программировать. Психодинамисты говорят, что человек – это поле боя. Что психика человека – это пространство, в котором сталкиваются желания, потребности, долженствования, табу, и всё это варится в каком-то котле и генерирует очень много движения. Психодинамика в этом смысле - процесс, то, что происходит внутри.
Максимально психодинамически напряжённый человек – это человек, который вообще ничего не делает. Как я люблю объяснять психологам, которым я преподаю: психодинамически напряжённый человек – как шарик, который перед тем, как лопнуть, перестаёт надуваться. Когда человек максимально напряжён, он перестает быть подвижным. Он буквально замирает в кресле, перестает говорить и балансирует на грани охранительного торможения – где-то между тем, чтобы сорваться то ли в истерику, то ли в обморок, то ли застыть на месте, то ли наброситься на терапевта, то ли забиться в угол. Вот это психодинамика. Внутренний процесс, состояние, в котором человек очень остро переживает конфликт внутри себя и внутреннее противоречие. Именно это состояние называется высоко психодинамичным, и именно оно приводит, во-первых, к прогрессу в психотерапии/консультировании. А во-вторых, ко всем тем вещам, которые у широкой аудитории ассоциируются с психодинамикой. То есть с конфликтами окружающими, проявлениям агрессии, отреагированиям вытесненных эмоций и так далее.
Так что, если вы находитесь в психотерапии, и вы не срываете связки на сессии, но вам очень плохо и напряженно, то вполне возможно, что вы в очень хорошей психодинамике.
Читать полностью…
Страдай с толком
03 February 2024 20:18
Агрессивное заслуживание
Я уже говорил о том, что нельзя заслужить какое-то отношение. Что отношение к вам – будь то любовь, сексуальное влечение, дружба, уважение – это не то, что вы получаете как приз в конце игрового уровня за набор достаточного количество очков. Это то, что формируется как отклик на то, какое отношение вы к себе принимаете, и как результат контрактов, работающих в ваших отношениях. Но есть ещё одна вещь, о которой я хотел бы поговорить.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что сама постановка вопроса по заслуживанию какого-то отношения указывает на попытку подчинить. Хотя в первом приближении эта формулировка может показаться унизительной и практически заискивающей, но в реальности, если мы посмотрим не на поверхностные признаки, а на смысл происходящего – это форма унижения и агрессии со стороны человека, который думает, что он что-то заслуживает. Почему это так? Потому что здесь работает та самая пресловутая объективация. Только не в той форме, о которой фантазируют феминистки, когда кто-то замечает чужую привлекательность и начинает фантазировать о человеке как об объекте сексуального удовлетворения. Это как раз нормальный процесс формирования желаний, желания формируются благодаря объективации потребностей. Проблема начинается тогда, когда человек воспринимает другого как автомат по выдаче определённого отношения.
То есть это отношение к другому, отрицающее чужую субъектность. В итоге получаются такие отношения, главная мысль в которых состоит в том, что не надо совершать поступки, не надо с человеком договариваться, не надо что-то от него принимать или как-то вообще выстраивать взаимоотношения как с самостоятельным субъектом действия. Достаточно выработать какие-то свойства, на которые он, как автомат, откликнется. Как некоторые парни думают (если уж мы говорим про секс и объективацию), что если я 10 раз проявил себя как хороший парень, то из девушки должен выпасть секс. Точно так же это работает во всех остальных случаях заслуживания. Если Петя 10 раз поступил как хороший друг, то из его друга должно что-то выпасть. Если Фёкла 10 раз сварила борщ, то из её молодого человека должно выпасть финансовое содержание. В общем, другой человек представляется не живым объектом, а таким механизмом, в который должен быть правильный ввод, и тогда будет правильный вывод. Что человек – это просто некоторый чёрный ящик и микросхема, на которую надо правильным образом воздействовать, тогда получишь, чего хочешь. А если не получил, чего хочешь, значит, просто не дал правильный сигнал.
В этой картине мира субъектность, авторство, право решать, как поступать, есть только у самого «заслуживающего», а у другой стороны никакой собственной субъектности нет. Другая сторона – это просто сейф, к которому подбирается шифр. В этом смысле, как бы парадоксально относительно эмоциональной окраски происходящего ни выглядел этот механизм, процесс заслуживания является формой агрессии, обесценивания и попытки принудить другого человека что-то сделать безотносительно его воли и желания, предполагая у него свойство определённым образом реагировать на правильный стимул.
Читать полностью…
Страдай с толком
30 January 2024 20:17
Непропорциональный ущерб
Последнее время я достаточно часто говорю о теме справедливости и об иллюзиях с ней связанных. Одна из них – это представление людей о том, что есть какая-то пропорциональность между ущербом, который кто-то наносит, и выгодой, ради которой он этот ущерб готов нанести другому.
Если кто-то пнёт прохожего на улице за миллион долларов, мы можем посчитать, что это все ещё не вежливый поступок, но у нас не будет вопросов к мотивации человека, пнувшего прохожего. За миллион долларов, я думаю, любой это сделает, разве что кроме мультимиллиардера. Если же кто-то убил бабушку в подъезде за её пенсию в 12 тысяч рублей, тут возникают уже вопросы. Люди начинают возмущаться, как так можно убить человека ради таких копеек. Есть представление, что есть какая-то пропорциональность, что есть сумма денег, за которую можно причинить зло. Ну не то, чтобы можно, но понятно, почему это могли сделать. А есть какие-то выгоды, которые того не стоят, и обычно эта выгода как-то соотносится с объёмом страдания, который человек нанёс другому.
Так вот, я вам со всей своей профессиональной циничностью спешу сообщить, что такой пропорции нет. Что когда люди наносят другому какое-то страдание, особенно если они это делают бессознательно. И не потому, что они прожжёные, циничные, криминальные или уголовные элементы, а потому что они сами по себе невротики – неосознанные и травмированные.
Вполне может быть ситуация, в которой родитель запускает болезнь у ребёнка и делает его инвалидом для того, чтобы просто не утруждать себя звонком врачу. Потому что ему не нравится, как и многим людям не нравится, звонить врачу и назначать приём. Вполне может быть так, что родители разрушают ребёнку самооценку до основания, тотально его подчиняют, калечат психику для того, чтобы он меньше шумел или для того, чтобы он копал грядки и не возмущался. Вполне может быть так, что один партнёр газлайтит другого и доводит до серьёзного психологического нарушения в виде РПП, суицидального поведения или селфхарма только потому, что эта линия поведения позволяет ему переложить на партнёра ответственность за своё качество жизни, и, например, не сталкиваться с осознанием того, что надо менять работу.
Никакой пропорции между тем, какой объём ущерба будет нанесён другому, и тем, сколько выгоды получит человек в данный момент, в психике по умолчанию не заложено. Это функция, которая воспитывается, которую вкладывают в психику культурой, и которая требует осознания того, что человек делает. А в неосознанном состоянии (и я не имею в виду это как оправдание ни в коем случае, потому что не осознавать что-то – это тоже выбор, пусть и бессознательный) человек, даже в целом хороший и не имеющей цели кому-то навредить, не какой-то моральный урод и жестокий человек, вполне может себе позволить причинить любой объём жесточайшего страдания кому угодно для удовлетворения малейшей хотелки.
Если бы существовал сценарий, в котором перфекционист-прокрастинатор мог устроить геноцид половине населения Земли для того, чтобы отсрочить на 2 секунды дедлайн проекта, я вас уверяю, он бы это сделал, особенно если бы это было неосознанным действием.
Особенно эта же тема всплывает в теме детско-родительских отношений, почему, собственно говоря, я привожу такие примеры с родителями. Потому что, когда родители наносят какой-то ущерб психике ребенка, это очень сильно меняет траекторию его жизни, и объём ущерба накапливается экспоненциально. А родители могли и не иметь в виду наносить весь этот ущерб, они просто хотели получить для себя какую-то сиюминутную выгоду. Поэтому, когда 30 лет спустя после двух лет психотерапии, клиент начинает возвращать ответственность за последствия того, что они натворили, они искренне не понимают вообще, за что им предъявляют, ведь они искренне не собирались этих результатов добиваться. То, что эти события всё-таки являются результатом их действий, – находится по ту сторону огромного объёма работы по осознанию контакта с реальностью и принятию ответственности, на которое абсолютное большинство людей никогда не пойдёт.
Читать полностью…
Страдай с толком
16 January 2024 20:15
Сундук войны
Я достаточно много рассказываю о том, что снижение самооценки часто полезнее её повышения. Я бы хотел продолжить эту славную традицию и добавить к этому факту то, что не только снижение самооценки, но и, как это ни странно от меня слышать, иногда снижение амбиций тоже оказывается полезнее в долгосрочном плане. В том числе и для амбиций. Потому что когда вы идёте на войну, вам нужны на это ресурсы.
Как мы все могли заметить в последнее время, война – дело затратное. И если вам нужно отстоять границы с кем-то, кто их капитально нарушает, вполне вероятно, что на их отстаивание вам придётся потратиться, и по итогу вы лишитесь чего-то и останетесь с худшим качеством жизни и в меньших объёмах себя. То есть вас буквально станет меньше, чем это было до того, как наши границы были нарушены. Соглашаться с этим, конечно, очень не хочется. Это категорически неприятная перспектива, но иногда бывает так, что перед вами только две альтернативы. Первая: согласиться с тем, что вы можете оказаться с худшим качеством жизни, меньшим удовлетворением потребностей, но зато с чёткими границами, в рамках которых вы уже будете принадлежать сами себе и дальше сможете развиваться. Возможно, даже вернуть себе потом утраченное сторицей. Вторая: боятся пойти на эту конфронтацию, и тогда просто оставаться в заложниках своего текущего качества жизни в золотой клетке, которая вполне может быть даже и не золотой, а свинцовой. Но даже будь она бриллиантовой – это все ещё клетка.
Если вы не готовы ничем поступиться, боитесь любой просадки по качеству жизни, то, конечно, отстоять границы вам будет очень тяжело. Потому что другой стороне достаточно будет вас пошантажировать малейшим актом агрессии, и вы уже не будете готовы на такое повышение ставок.
Когда вы собрались отстаивать границы, вам нужен некоторый сундук войны, если он у вас есть – отлично. Всегда хорошо, когда есть запас ресурсов. Психологически благополучные люди его имеют. Но если вы только встали на путь психологического благополучия, а до того вы психологически благополучны не были, то часто оказывается так, что единственный источник, из которого вы можете себе этот сундук войны создать, – это заранее примириться с тем, что ваше качество жизни может оказаться хуже нынешнего. И вот эта дельта между тем, как вы живете сейчас, и тем, как вы готовы жить в случае чего – она и будет вашим сундуком войны. Это и будет вашим боевым потенциалом для отстаивания границ.
Вася зарабатывает полмиллиона, но и рассчитывает жить на полмиллиона. У него нет свободных ресурсов вообще. Ему нечем отвоёвывать свои границы, если они будут нарушены. Если же Вася примет для себя внутреннее решение, что он и на триста тысяч выживет, то у него появляется пространство для манёвра. Разница между тем, как есть сейчас, и той планкой, до которой он готов опустить качество жизни ради отстаивания границ – его сундук войны, его ресурсы для отстаивания границ.
Читать полностью…
Страдай с толком
26 December 2023 20:18
Фальшивые игрушки
Старый анекдот рассказывает о том, как в город завезли партию фальшивых ёлочных игрушек, которые выглядят как настоящие, только радости от них – никакой. Несмотря на то, что это шутка, как часто бывает с анекдотами, за ней стоит весьма ценное наблюдение и важный психологический феномен, про который я сегодня расскажу. А именно: не все способы отдыха и развлечения одинаково полезны.
Я не имею в виду, что есть походы с медитацией на поверхность озёр, а есть употребление опиатов. Я имею в виду, что одни и те же вещи могут сработать как крайне положительно, так и отрицательно – в зависимости от того, как ими пользоваться. Но рассказать я сейчас хочу не о том, как правильно отдыхать. А о том, что на это в принципе важно обращать внимание.
Главный способ научения у большинства высших млекопитов – имитация. Люди именно в основном учатся, повторяя и обезьянничая за кем-то другим. Если мы знаем, что другие люди отдыхают и развлекаются, или даже мы знаем про себя в прошлом, что мы что-то делали, и это приносило нам отдых и развлекало, то мы будем повторять именно это действие. Если мы живём в культуре, в которой принято болеть за футбольную команду, мы будем ходить на футбол. Если какой-то авторитетный для нас человек практикует медитацию, мы будем пробовать медитировать.
Проблема в том, что, как и любая имитация, имитация отдыха и развлечения может быть крайне поверхностной, но в случае с отдыхом и развлечением критерии эффективности крайне субъективны. Если человек свою субъектность в этом процессе не задействует, не даёт себе труда оценить, насколько то, что произошло, было эффективно; насколько он отдохнул, развлёкся; насколько у него снизилось напряжение; то может оказаться, что человек не только не получает желаемого результата, но и получает прямо противоположный и не замечает этого.
Как всегда нужно задаваться вопросом – «а не фигню ли я творю?». Поскольку этот месседж не оригинальный, то, чтобы было более ценно, я бы хотел к нему добавить одну важную деталь. Важно не упускать из виду тот факт, что субъективные вещи объективно существуют. Какая-то еда вкусная или нет – это субъективная оценка, но можно объективно измерить, нравится человеку еда, и даже необязательно для этого засовывать его в томограф. Достаточно посмотреть на то, стремится ли он побольше этого есть, продолжает ли есть, и сравнить с тем, как он ест другую еду.
Если вы боитесь, что ваша интуиция вас подводит, и вы не готовы, просто опираясь на внутренние суждения, критиковать ту или иную форму досуга, заявляя, что она оказалась недостаточно эффективна, то я вас поздравляю. Не доверять интуиции – это часто верное решение, но выходом из этой ситуации является не проигнорировать свою субъективную оценку, а найти объективные внешние маркеры своего состояния, посмотреть, к каким занятиям, какой еде вас тянет, какую одежду вам хочется носить в разных ваших состояниях, и потом посмотреть, приводит этот способ отдыха и сброса напряжения к тому, что вы переходите в это другое состояние. В состояние, в котором вам хочется делать то, что обычно хочется, если вы хорошо отдохнули.
И это уже будет не просто субъективная оценка, подверженная всем когнитивным искажениям, которые существуют, а переход от рефлексии – к самонаблюдению и более объективному измерению эффективности вашего отдыха.
Читать полностью…
Страдай с толком
16 December 2023 20:17
Обратись за помощью
Есть одна тактика по жизни, довольно простая и очевидная, как многие вещи в психологии, но дружно игнорируемая большинством людей. Называется она, как вы можете догадаться, – попроси о помощи.
Средний человек в активный период своей взрослой жизни, то есть где-то между 20 и 45-50 годами должен строить карьеру, заниматься семьёй, здоровьем, личностно развиваться, получать образование, следить за состоянием своей психики, инвестировать, откладывать на будущее, следить за политикой, как-то путешествовать, отдыхать, когда-то спать, когда-то есть – и всё это одновременно. И на всё это 24 часа в сутки.
Каждый из этих пунктов можно распаковывать до бесконечности. Например, общаться с семьёй. Семья включает в себя и старшее поколение, и свою личную семью, и дальних родственников, и ближайших друзей. Всех их надо как-то балансировать, а это только одна из сфер жизни. Естественно, в среднем люди не справляются примерно ни с чем. Хорошо, если у какого-то человека одна сфера удаётся. Но, как правило, ни одна из сфер хорошо не удаётся, большинство – удаются посредственно, и 2-3 сферы – не удаются вообще. Что можно в этой ситуации сделать?
Можно запросить помощь. Люди просто фантастически редко и плохо просят о помощи. Если сравнить, сколько средний человек обращается за помощью, с тем, как часто, много и активно обращаются за помощью люди, которые освоили это мастерство – это просто невообразимое сравнение. Это как сравнивать уровень росы в Сахаре с Ниагарским водопадом. При этом это необязательно связано с тем, что человеку не к кому обратиться. На моей практике практически не бывает такого, чтобы абсолютно не было к кому было обратиться. Это связано в большей степени с кучей кучной психологических механизмов. Люди могут бояться выдуманных манипуляций, ощущения ответственности за то, что потом надо будет как-то расплачиваться за эту помощь. Люди могут не желать признавать наличие проблем или фантазировать о том, что обращение за помощью говорит о собственной неполноценности. Но даже у тех людей, у которых достаточно ресурсов, чтобы просто нанимать себе толпы персонала, часто этих толп нет.
Среди моих клиентов – весьма обеспеченные люди, и стыдно сказать, но не у каждого из них есть личный ассистент. Даже у меня есть личный ассистент, и уже достаточно давно. Это просто какое-то безумие, когда люди с невероятными капиталами и доходами, тратят собственное время на то, чтобы дозвониться куда-то, что-то выяснить или куда-то записаться. Или люди, у которых есть огромная семья, тратят силы на то, чтобы выполнить какую-то бытовую задачу, которую можно делегировать. Или люди, которые работают с кучей коллег, начальства или подчинённых, задерживаются на сверхурочные, вместо того чтобы заниматься принятием решений. Они тупо не обращаются за помощью. Ни наверх к вышестоящим – прояснить какие-то вещи, посодействовать, воспользоваться своими более мощными ресурсами в пользу человека. Ни по горизонтали – к коллегам, друзьям, родственникам, соседям. Ни даже вниз – к собственным сотрудникам и нанятым людям.
Это относится больше к русскоязычной культуре, и я так понимаю, связано с тем, что в Советском Союзе после всех этапов раскулачивания и травли аристократии, у нас просто не осталось исторической преемственности по культуре делегирования. На западе же были исследования, что чем богаче человек, тем больше он делегирует и покупает свободного времени и ресурсов в бытовой жизни. Это довольная странная картина в Штатах или на Западе, чтобы человек, имеющий возможность нанять клининг, сам мыл квартиру. Не потому, что ему это нравится, а потому что стесняется или ему не пришло в голову.
Так что одна очень простая вещь, которую вы можете сделать для себя прямо сейчас – это сесть, написать список задач, которые перед вами стоят, или обязательств, которые вы несёте, или даже просто желаний, которые вы хотите реализовать. А дальше – задаться вопросом, что из этого можно либо целиком кому-то делегировать, либо в чём можно получить помощь. И вы обнаружите, что эта цифра будет в районе 80-90%.
Читать полностью…
Страдай с толком
12 December 2023 20:19
Ложная добродетель
Не новая мысль, что, помимо влияния самого феномена на человека и качество его жизни, сильно влияет интерпретация этого феномена. Но иногда эта интерпретация превращает феномен в его диаметральную противоположность, что подталкивает человека в направлении ему категорически не нужном. Пример, который я хотел обсудить сейчас, выглядит следующим образом.
Человек подчиняется в созависимых отношениях, и в рамках своего подчинения, как положено подчинённому, делится своим ресурсом, тратит свои силы, время, деньги и нервы на кого-то другого. Это может быть в самых разных формах, начиная от перекапывания грядок родителям, и заканчивая сексуальным обслуживанием партнёра и его фантазий. Но суть одна и та же. Человек делает что-то, что ему не нравится, чего он не хочет, потому что если он не будет этого делать, то доминирующий в этих созависимых отношениях партнёр каким-то образом его накажет.
Самый распространенный кейс – это если партнёр накажет внушением чувства вины, манипуляцией, но могут быть варианты вплоть до физического насилия. Такое подчинение – само по себе довольно неприятный феномен. Человеку в нём некомфортно, и это подталкивает к тому, чтобы из этих отношений пытаться выйти. У него это, конечно, не получается, потому что отношения-то созависимые, но желание у человека обычно есть. Он может даже искать какие-то способы это сделать, в том числе обращаться за помощью к психологу с запросом на сепарацию из созависимых отношений. К сожалению, это происходит в том случае, если человек воспринимает феномен таким, какой он есть. А именно, называет вещи своими именами: подчинение – подчинением, манипуляцию – манипуляцией, абьюз – абьюзом и так далее.
Однако человек способен развернуть ситуацию в диаметрально противоположном направлении и представить своё подчинение и передачу ресурсов в рамках подчинения как благотворительность. «Это не мама так заманипулировала мной чувством вины, что я умру от вины и стыда, если не перекопаю ей грядки, а это я – любящий сын, который пожилой женщине обеспечивает хоть какой-то досуг, вот она любит грядки, а я о ней забочусь». Или «это не мой парень меня изобьёт, если я не буду будить его по утрам оральным сексом, а это я – настоящая женщина, дышащая маткой, вибрирующая нижней чакрой с Энергией Земли, и таким образом выполняю свою женскую функцию». В данном случае подчинение полностью игнорируется и, более того, интерпретируется либо как добродетель, либо как благотворительность, либо как проявление каких-то крайне желательных черт личности: щедрости, женственности, мужественности, сыновьести, родительственности – всё что угодно.
Как нетрудно догадаться, такая интерпретация отправляет человека в диаметрально противоположном направлении изначально. Он не только не пытается прервать этот процесс и не приходит к психологу с запросом на него, а даже наоборот: когда в рамках работы с психологом человек обнаруживает у себя такое поведение или, скорее, сам психолог обнаруживает такое поведение в жизни человека, то человек его всячески защищает и не позволяет критиковать. Потому что: «Ну как это так, что же я за плохой человек буду, если я был весь из себя настоящий мужчина – щедрый, заботливый и благотворительный – а стану мелочным эгоистичным чмом, когда перестану это делать».
Это, собственно, одна из причин, почему лично я, как и многие опытные психологи, категорически настораживаюсь, когда слышу рассказы о благотворительности со стороны других психологов, особенно молодых. Потому что благотворительность и спасение каких-то других утопающих всегда вызывает вопросики и сомнения в том, какая подлинная мотивация за этим стоит.
Читать полностью…
Страдай с толком
18 November 2023 20:17
Психодинамика и психиатрия
Ох, этот пост вызовет много переживаний у определённой категории читателей, но я позволю себе, со свойственной мне нескромностью, всё-таки об этом поговорить. Это тема, которая очень мало поднимается, и я вообще не видел хороших источников на эту тему. В основном об этом говорят в кулуарах, в перерывах между сессиями конференций, на перекуре после интервизорской группы, не в публичном поле. Потому что тот, кто скажет об этом публично, рискует быть подвергнутым жёсткому остракизму. Поскольку я уже давно перешёл эту черту, то мне не страшно, и я поговорю.
Дело в том, что между психодинамикой и психиатрией существует некоторое пересечение множеств. Есть вещи, которые чистой воды психодинамика, и где любой психиатр, не склонный к гипердиагностике, скажет, что вам не нужны никакие препараты, у вас нет клинического диагноза, вам нужно пойти к психологу и порешать свои психологические проблемы.
С другой стороны, есть обратные ситуации, когда даже психодинамист (нормальный, а не борцун с психиатрией), скажет, что, батенька, у вас клиническая депрессия или подозрение на более тяжёлое состояние, может быть, психоз, сходите, к добрым людям в белых халатах, хотя бы проконсультируйтесь. А может быть, не только к психиатрам, а к эндокринологу, неврологу или даже кардиологу – в зависимости от симптоматики. Но между этими чистыми, очень удобными для обсуждения на клинических разборах ситуациями, существует серое поле, в котором у психиатров и динамистов есть некоторые тёрки.
Есть клиенты, состояние которых достаточно плохо, чтобы психиатр, если к нему придёт такой клиент, не сильно покривив душой, сказал: «Да вы, батенька, нуждаетесь в фармакологии, вам бы попить антидепрессанты и/или противотревожные». А психодинамист, тоже не кривя душой, не нарушая никакие заповеди психологической помощи, скажет: «Знаете что? Хватит придуриваться, это не психиатрия, а ваше сопротивление. Давайте продолжать идти навстречу напряжению». И это, конечно, скользкий момент, на котором немудрено поскользнуться и упасть, потому что здесь вступают в конфликт два императива.
С одной стороны, безусловно, надо заботиться о клиенте. Динамически работать и повышать напряжение клиенту, у которого действительно есть психиатрическое нарушение, – нельзя. Мы ему только навредим. С другой стороны, что такое «действительно есть психиатрическое нарушение» в применении к так называемой малой психиатрии (я не говорю сейчас про шизофрению и прочее)? Довольно скользкое явление. Может быть, есть случаи, когда у клиента 100% клиническая эндогенная депрессия, а есть случаи, когда это не факт? И есть вот эта серая зона, в которой происходит такое оценочное суждение со стороны специалиста, который, если это хороший специалист (как я, например), оповещает о происходящем клиента. Говорит: «Слушай, ну если тебе так тяжело, ты можешь пойти к психиатру, он тебе пропишет таблеточки, и тебе полегчает», – но при этом всё ещё позволяет себе это оповещение окрасить в тон того, что клиент поддастся в таком случае сопротивлению. Что вот у него есть выбор, я считаю, что мы ещё можем продолжать, но он может за себя решить, что ему хватило, и что он не готов больше выносить это напряжение.
Насколько это действительно возвращение ответственности клиенту или иллюзия? Дискуссионный вопрос. Есть кейсы, когда клиенты в таком случае действительно радостно уходили, получив разрешение от психолога. Есть кейсы, когда клиент оставался и это было зря, и в итоге он всё равно оказывался у психиатра позже. Но сам факт того, что это серая зона существует, мне кажется, явно недостаточно освещается. Было бы хорошо, чтобы и специалисты, и клиенты понимали, что она существует.
У меня нет хорошего решения в данный момент. У меня нет чёткой границы, которую нельзя переступать психодинамисту, или от которой надо шарахаться клиентам. Но само понимание того, что есть уровень страдания, при котором нет определённости, это уже клиника и нужна фарма, или ещё нет – и можно обойтись разговорной терапией и даже пойти навстречу напряжению, – мне кажется, важно популяризировать.
Читать полностью…
Страдай с толком
11 November 2023 20:17
Внутренняя картина болезни и лечения
Внутренняя картина болезни и лечения – медицинские термины, но психология горазда тырить чужие термины, так что ничтоже сумняшеся, позвольте вам представить очень оригинальные психологические понятия. Их суть хорошо раскрывается названием и состоит в том, что психологу важно, как сам клиент воспринимает, как он концептуализирует и понимает свою проблему (внутренняя картина болезни), а также как он понимает способ выхода из неё (внутренняя картина лечения).
Психолог – это психолог, а не социолог, не колдун вуду, не трансёрфер реальности, не господь бог. Поэтому если клиент свою проблему, например, в личной жизни концептуализирует, как происходящую из-за того, что все бабы дуры, то тут как бы ничего поделаешь. Всех баб изменить не получится, если только ты не бог. Или если клиент концептуализирует свою внутреннюю картину проблемы/болезни как то, что какая-то конкретная баба дура, то это запрос к психологу на работу с третьим лицом, а не самим клиентом. Ну вот представим, что Вася пришёл, и его внутренняя картина проблемы/болезни состоит в том, что «Фёкла...». И дальше в принципе не важно что: «Фёкла слишком», «Фёкла недостаточно», «Фёкла постоянно», «Фёкла никогда» – и дальше какое-то действие. Это всё уже не имеет значения, потому что как только произнесена фраза: «У меня проблема, потому что Фёкла», – это сразу попадает в категорию запроса на третье лицо, и дальше Васе, по-хорошему, надо уходить от психолога, идти к колдуну вуду, приносить волосы Фёклы, просить сшить из них куколку и учиться как-то ею управлять. Психолог же на этом не специализируется. По крайней мере, нормальный.
Чтобы психологу работать с проблемой клиента, ему нужно, чтобы эта проблема была, как ни странно, психологическая. Соответственно, внутренняя картина проблемы/болезни у клиента должна быть такой, чтобы проблема происходила из каких-то его психических феноменов: или из свойств его психики, или из решений, или из конфликта психического, или из мыслей, которые он думает. В общем, чего-то происходящего внутри его черепной коробки, потому что снаружи черепной коробки юрисдикция психологии заканчивается.
То же самое верно по поводу внутренней картины лечения или выхода из проблемы. Потому что даже если клиент считает, что у него проблема психологическая, например, у него руминации, но в качестве выхода из неё он думает, что ему сейчас дадут какую-нибудь вкусную таблетку, и руминации уйдут, то да, с некоторыми проблемами так тоже можно, но это не психология. Это вам, пожалуйста, к доброму дяде доктору-психиатру.
Психологу нужно, чтобы решение проблемы тоже было психологическое. Не магическое влияние; не то, что психолог сейчас произнесёт какие-то Очень Убеждающие Слова, после которых жизнь изменится; не просто упражнения, которые можно формально долдонить, и проблема решится. Психологу нужна проблема, решение которой понимается клиентом, как некоторая психологическая работа над собой.
Без обоих этих компонентов эффективная психологическая помощь в большинстве методов (не во всех, но в большинстве) невозможна. Соответственно, вся работа до достижения такой внутренней картины проблемы и выхода из неё направлена только на одну вещь, а именно – на достижение этой картины. В моей секте это ещё называется «битвой за психогенез».
Читать полностью…
Страдай с толком
04 November 2023 20:15
Сочувствие и жалость
Важно понимать разницу между сочувствием и жалостью. И сочувствие, и жалость возникают в контексте отношения к страдающему человеку, но отношения это совершенно разные. Суть же различия между ними такая же, как между поддержкой и отниманием ответственности.
Сочувствие – это отношение, которое побуждает нас поддерживать человека. Когда мы видим страдающего человека и сочувствуем ему, мы продолжаем считать его полноценным, дееспособным и не мешаем ему справляться с трудностями. Мы отдаём ему право на это страдание, позволяем самому нести ответственность за свою жизнь и решать свои проблемы. Если мы хорошо к нему относимся и сильно сочувствуем, или у нас есть очень много свободных ресурсов, мы можем предложить ему поддержку. Но, во-первых, разрешаем ему отказаться. Во-вторых, даём столько поддержки, сколько можем. В случае сочувствия – мера нашей поддержки находится внутри, мы выделяем столько ресурсов, сколько готовы выделить на этого человека, насколько он для нас значим или насколько у нас есть лишнего. Сколько бы мы ни дали, мы считаем, что мы сделали хорошее дело. Дальше уже по ситуации – ждём/не ждём благодарности, но готовы её принять. И наоборот: обижаемся и предъявляем претензии, если человек возмущается тем, что мы поддержали его недостаточно.
Жалость – это тоже отношение, но оно побуждает нас снимать с человека (по правде, жалеть можно не только человека) ответственность. Мы считаем, что этот человек неполноценен и не вывозит свою проблему. Если мы решаем позволить себе реализовать жалость, то мера нашей траты ресурсов находится не внутри нас, а снаружи. Например, мы пожалели бродячую собачку, потрепали её за холку и пошли дальше. Только после этого мы чувствуем себя плохо. Мы понимаем, что бездомную собаку этим не спасли. То, что мы её потрепали, – только раздразнили.
То же самое с людьми. Если мы жалеем человека, то мы принимаем на себя ответственность за него, и потом в меру этой ответственности пашем на его благо. И от человека, которого мы пожалели, довольно странно ощущаются попытки благодарности. Хорошо, конечно, если он нас благодарит, но в этом нет никакой необходимости, потому что мы продолжаем считать человека неполноценным. А спасать человека, которого нам жалко, мы можем даже против его воли, не принимая у него отказ, не оставляя ему право на его страдание, не считая, что он сам справится. Мы чувствуем, что действительно взяли ответственность, а быть ответственным – дело непростое. Если же мы плохо справились, то принимаем от него претензии.
Таким образом, сочувствие и жалость совершенно различны. Я не буду называть какое-то из них здоровым или невротическим. И то, и другое уместно в своё время и в своём месте: действительно существуют люди неполноценные и недееспособные.
И вообще-то, не так плохо именно жалеть, а не просто сочувствовать детям, больным, да и кому угодно, если он сам не вывозит. Но с жалостью, в отличие от сочувствия, нужно быть аккуратным. Потому что сочувствовать вы можете кому угодно. Это менее обязывающее или вовсе не обязывающее чувство. Вас хватит на сочувствие почти всему миру. А вот жалеть весь мир точно не получится, если только вы не Господь Бог.
Поэтому жалеть нужно, во-первых, дозированно и соизмеряя свои ресурсы. Нужно быть безжалостным по отношению к тем, на кого вас не хватает. А во-вторых, проверять внимательно, что человек, которого вы жалеете, действительно недееспособен, неполноценен и не вывозит свою ответственность, а не просто закатил истерику. Нередки ситуации, когда, перепутав сочувствие и жалость, и начав принимать на себя ответственность, вместо того чтобы поддерживать, люди или покупались на истерику, или хуже того – инфантилизировали до того даже не пытавшегося истерить человека.
Так что будьте внимательны и различайте сочувствие и жалость.
Читать полностью…
Страдай с толком
28 October 2023 21:14
Трудоёмкое страдание
В психологии есть такое понятие как «работа горя», которое обычно используется для того, чтобы донести мысль, что горе – это продуктивный процесс, и надо дать ему время повариться и поработать. Пока человек переживает горе, его картина мира перестраивается с учётом потери, которая и вызвала горе.
Но в термине «работа горя» можно усмотреть и второй смысл. А именно, намёк на то, что горевать – это, вообще-то говоря, работать. Это не просто позволение эмоции делать какую-то свою штуку, а это усилие, это труд и деятельность. С такого разбега не только горевать – это труд, а в принципе переживать эмоции (даже положительные) – это тоже труд. В частности, страдать – труд. И это что-то, что люди часто забывают как в быту, так и в терапии и консультировании, игнорируя начисто, не закладывая в свои ожидания, в интерпретацию и оценку происходящего внутреннюю работу, которая проводится в психике. Люди приходят на психотерапию, и они рассчитывают, что параллельно с сепарацией от родителей, будут с утра продуктивно работать на работе, потом придут к психологу, там будут страдать по поводу того, что мама их не любила, а вечером придут в семью бодрыми, энергичными и продолжат жить как ни в чём не бывало, а ещё и, может быть, даже энергичнее. А так не будет. Будет наоборот.
Люди с высокой динамикой создают напряжение вокруг себя, то есть их внутреннее высокое напряжение выплёскивается везде вокруг. И это нормально. Клиентов предупреждают, что в зависимости от ситуации иногда бывает так. Это прямо бывает заданием от терапевта: предупредить своих близких, что в ближайшее время клиент будет невыносим. То же самое распространяется и на бытовую жизнь. Когда вы знаете, что вам предстоит столкнуться с каким-то стрессом, переездом, потерей чего-то, сменой карьеры, расставанием, созданием новых отношений – это всё труд. Я не знаю, почему люди упорно остаются в рамках магического мышления и относятся к психике как к какому-то отдельному от тела процессу.
Спешу вас заверить, мозг – это такой же орган, как и мышцы. Если вы хотите менять свою мышечную структуру, вам надо прикладывать усилия, а значит – уставать, а потом болеть этими мышцами. Если вы хотите менять структуру своей психики, которая по-прежнему конституируется мозгом, вам надо точно так же этот мозг упражнять, потом им уставать, а потом им болеть. Потому что, как известно, – no pain, no gain.
Читать полностью…
Страдай с толком
25 October 2023 19:25
Объявляю старт супервизионной группы
7 ноября в 19:00 по мск
В рамках Клуба Начинающих Психологов своей жены я скоро начну вести регулярную супервизионную группу. Это такое пространство, где несколько (до 7) психологов собираются чтобы обсудить два (по крайней мере, на это расчёт) кейса за 2 часа. Один психолог выносит свой кейс – все вместе обсуждаем. Моя задача, как ведущего, – не только помочь выносящему кейс лучше разобраться в заявленной ситуации, но и помочь всем участникам концептуализировать кейс, понять причину и способ решения возникшей сложности.
Я сам обожал такие штуки, когда начинал практику, это очень эффективно для профессионального роста, не только как инструмент повышения методической квалификации, но и за счёт работы с профессиональной самооценкой и идентичностью. Cуметь вынести кейс, высказать свою точку зрения, заявить своё профессиональное мнение и поставить эго на кон – это круто развивает. Для скромных и тревожных (коих среди начинающих коллег большинство) – это способ поверить в свои силы; для нарциссично-самоуверенного меньшинства – способ позволить себе ошибаться и принять свою неидеальность.
Кроме того, это возможность посмотреть на конкретные кейсы коллег и увидеть их через призму разных модальностей и опыта других участников.
Преимущество этого формата в сравнении с индивидуальной супервизией в том, что вы получаете не только ответы на ваши кейсы, но и опыт анализа других сложных ситуаций, а также постоянно расширяете свой багаж техник и методик для их решения.
Постоянная группа даёт ощущение безопасности, а заранее определенный график встреч позволяет приобрести опору и заранее спланировать свое время.
В рамках этого цикла супервизии вы сможете максимально разобрать 20 случаев.
Количество участников: до 7 человек.
Условия: 1 раз в 2 недели по вторникам в 19:00 по мск, онлайн
Стоимость: 15000 рублей/10 встреч
Ведущий: я, Константин Кунах, психолог-консультант, автор этого канала и психолог-консультант с десятилетним стажем
Запись на сайте Клуба начинающих психологов в разделе «Расписание мероприятий»:
https://mariyakunakh.com/psychology_club
Читать полностью…
Страдай с толком
22 February 2024 20:15
Одинарные стандарты
О том, что двойные стандарты – плохо знают все. Однако, в некоторых случаях почему-то принято считать, что двойные стандарты – это вполне себе что-то приемлемое. Один из таких примеров – это вопрос отношения к себе и отношения к окружающим. Забавно при этом, что разные люди при определении различий между отношением к себе и отношением к окружающим, имеют в виду совершенно разное.
Одни люди под отличием отношения к себе от отношения к окружающим имеют в виду, что к себе надо относиться гораздо строже, чем к другим. На этих других пофиг, с них как бы и спроса нет, а уж с себя-то можно и требовать. От себя можно ожидать, что я буду хорошо справляться и к себе можно предъявлять претензии по полной. Есть и другая часть людей, которая про разницу между отношением к себе и отношением к окружающим думает в диаметрально противоположном ключе. Что окружающих не жалко, окружающих можно давить сколько угодно, а у себя я один, я себя не на помойке нашел, себя любимого обижать не надо.
Однако вне зависимости от того, в какую сторону ваши двойные стандарты различаются, они от этого не становятся чем-то хорошим. При перекосе в любую сторону полезно задаваться вопросом – «как бы вы отнеслись к другому человеку в той же ситуации?» и выровнять отношение к себе и к другому. Уж в какую сторону – это отдельный вопрос, и надо разбираться по ситуации. Но, по крайней мере, это должно быть какое-то консистентное и конгруэнтное отношение.
Если Вася фигачит на работе как 10 стахановцев и занимается самобичеванием каждый раз, когда ему не удалось перевыполнить план работ на 3000%, было бы неплохо у него спросить относится ли он также ко всем своим коллегам, подчинённым и начальству? Потому что велика вероятность, что нет. А почему к себе Вася относится хуже, чем к другим? Почему он считает, что сам должен соответствовать какой-то совершенно другой планке? Что ему нужно меньше отдыха или с него должно быть больше спроса? И если бы Вася относился к себе хотя бы вполовину так же мягко, как он относится к коллегам, его жизнь, скорее всего, улучшилась бы.
А вот есть Петя, который считает, что если у него 70 лишних килограм веса, прыщи и нездоровая созависимость с матерью, то это потому, что ему по жизни не повезло и вообще тяжело меняться в таком несправедливом мире. А его девушка, конечно, должна быть подтянутая, образованная, энергичная, позитивная и сексуально активная, ибо негоже девушке за собой плохо ухаживать. Если бы Петя относился к себе в половину так же строго, как он относится к потенциальным романтическим и сексуальным партнёршам, возможно, его жизнь тоже бы наладилась.
В обоих случаях и Вася, и Петя живут хуже, чем могли бы, не просто потому что они к себе относятся слишком строго или слишком себя балуют, а потому что они к себе относятся иначе, чем к окружающим. Если бы у них было одинаковое отношение и к себе, и к окружающим, то такие крайности бы очень быстро откорректировались. Потому что невозможно ко всем относиться одинаково вольготно или одинаково сверхстрого и не упереться мгновенно в последствия. В этом смысле важнее, чтобы отношение было к консистентным, чем чтобы оно было адекватным. Потому что консистентное отношение стремится к адекватному под воздействием внешней обратной связи, а адекватное отношение не стремится к консистентному само по себе.
Если бы Вася давил на окружающих так же, как он давит на себя, то от окружающих ему бы очень быстро прилетело, что он тиран, деспот и с ним невозможно работать. И если бы у Васи было консистентное отношение к себе и окружающим, то ему пришлось бы поменять отношение вдогонку и к себе. Если бы Петя относился к себе также, как к окружающим - у него бы и проблемы, вероятно, не было.
Только то, что у Васи и Пети к себе и к окружающим отношения различны, только то, что они живут в двойных стандартах, – позволяет им эти двойные стандарты сохранять. Именно это и позволяет им продолжать оставаться в этой нездоровой ситуации, которую они сами себе создали.
Читать полностью…
Страдай с толком
17 February 2024 20:15
Хвастовство как унижение
Большинство людей считает, что хвастовство – это что-то, что делают люди, которые очень довольны собой, чтобы быть ещё более довольными собой. Некоторые, особенно я полагаю, их процент велик среди читателей моего канала, так как тут собралось немало людей, травмированных культурой советской интеллигенции, считают, что хвастовство – это низкий штиль. И что хвастаться – особенно гротескно хвастаться – это моветон, и нет ничего более низкого и унизительного, чем сам факт хвастовства. Это переживание мы не берём в расчёт, потому что это совершенно другой механизм, не тот, о котором я хочу поговорить сейчас. Да, тоже невротический, тоже вредный и тоже ничего хорошего в нём нет, но люди, которые воспринимают сам факт хвастовства как унижение, – это отдельная категория.
Сегодня я хочу поговорить о другом феномене, а именно – о содержании хвастовства как поводе для унижения. В фильме «Оружейный барон» с Николасом Кейджем, есть фраза главного героя: «В какой-то момент моё богатство догнало моё враньё о моём богатстве и даже превзошло его». Такая «fake it till you make it» история успеха. Это успешный пример, на который многие люди сознательно или нет, ориентируются. Они часто стараются завысить о себе мнение, представить себя лучше, чем они есть. Из-за этого попадают в неудобную ситуацию, когда хвастаться своими собственными достижениями, оказывается понижением относительно того уровня, который они себе уже придумали, заявили публично или, по крайней мере, транслировали.
В качестве радикального примера представьте себе, что вам пишет ближайший друг, который совершенно здоровый молодой человек средних лет без известных вам каких-либо заболеваний, и хвастается тем, что сегодня сам вовремя сходил в туалет и хорошо с этой задачей справился. Выглядит довольно странно, правда? Ну, то есть, либо не очень понятно, чем он хвастается, и это шутка неуместная, либо, если это действительно повод для хвастовства, то возникают вопросы о том, как он вообще живёт, и подозрение, что уровень его реального благополучия намного ниже, чем вы ожидали.
Вася рассказывает о том, что интересуется, например, каким-то видом спорта и годами ходит в спортзал в то время, как в лучшем случае ходит туда через пень колоду, а в худшем – сходил два раза в первый месяц и с тех пор не появлялся. А потом, спустя три года вранья, что занимается пауэрлифтингом, когда он всё-таки пошел в спортзал и начал добиваться успехов, говорить, что, наконец, жмёт штангу на 50 как-то стрёмно. Потому что ну либо он совсем рахитичный дистрофик, что три года к этому шёл, либо он всё это время врал, а тогда – придётся присваивать это враньё и нести за него ответственность. Не очень-то приятно. Тут Вася и оказывается в неудобной ситуации, когда присвоить текущие успехи невозможно, ну или точнее возможно, но для этого придётся унизиться. А если их не присвоить, то не будет следующих успехов. Потому что так это работает: чтобы догнать своё вранье, нужно прикладывать огромные усилия к тому, про что уже успел про себя наврать.
Что можно сказать про эту ситуацию? Помимо того, что я, конечно, не рекомендую в неё попадать, и напоминаю, что честно транслировать свой реальный уровень ресурсности – как правило, гораздо более выгодная стратегия. Но если уж вы оказались в этой ситуации, то я рекомендую не попадаться на когнитивные искажения непринятия невозвратных потерь и не пытаться вытянуть на силе воли до того момента, когда вы сможете превзойти ранее заявленную планку и начать хвастаться тем, что вы действительно выросли относительно того, что заявляли. А рекомендую – признаться в реальном положении вещей, пережить унижение с этим связанное и в дальнейшем иметь свободу и пространство для того, чтобы полноценно присваивать успехи и хвастаться теми достижениями, которые у вас реально есть. Несмотря на то, что первое время, да, это будет, как ни парадоксально, унизительное хвастовство.
Читать полностью…
Страдай с толком
10 February 2024 20:17
Неврастеник и истерик
Очень часто можно увидеть отношения, в которых пара состоит из неврастеника и истерика. В терминологии моей секты базовый внутриличностый конфликт истерика звучит как «я хочу, но мне не дают». Такой человек склонен к истерике, живёт с обидой на внешний мир, ощущает себя недооценённым и пользуется такими словами как «я заслуживаю», «мне должны»; обвиняет окружающих – «все плохие, я хороший», «я должен получать больше, меня недооценивают».
Другой партнёр, который неврастеник, имеет внутриличностный конфликт «я должен, но не могу/не справляюсь». И этот человек живёт не с обидой, а с чувством вины и неполноценности, и оперирует такими терминами как «должен», «положено», «надо».
Такие пары встречаются постоянно, и у многих возникает вопрос почему. То есть почему истерик ищет себе неврастеника вполне понятно, потому что два истерика с трудом уживаются. Они постоянно обвиняют друг друга, что один другого недолюбил. И, конечно, сложно жить, когда два участника отношений соревнуются в том, кто кого больше переистерит. Зачем истерику неврастеник – понятно. Неврастеник бегает и пытается удовлетворить истерику истерика, а тому только того и надо. Для истерика всё замечательно.
Но вот зачем же неврастенику нужен истерик? Почему неврастеник со своим долженствованием не может себе найти другого такого же неврастеника? Они бы друг друга замечательно обслуживали вместо того, чтобы постоянно ужасно себя чувствовать рядом с вечно недовольным человеком, который истерит и требует больше. Есть очень интересная причина, почему неврастеник не сходится с другими неврастениками, а сходится истериками. Потому что рядом с другим неврастеником гораздо более тревожно. Несмотря на то, что ощущения своей неполноценности и ощущения того, что он дал недостаточно, сделал мало, должен был стараться больше для неврастеника ужасно болезненно, и когда истерик предъявляет ему поток таких претензий, он, конечно, страдает, но преимущество таких отношений состоит в том, что истерик предъявляет претензии постоянно и сразу. Если истерик чем-то недоволен, даже не по делу, даже сверх меры, даже истерично, то истерик это сразу транслирует. Неврастеник сразу об этом знает, он не только чувствует себя неполноценным и виноватым, но он знает всё время, когда, насколько и как именно он неполноценен.
Другой же неврастеник своему партнёру-неврастенику не будет это транслировать. Если между ними что-то произошло не так, он будет тоже со своей стороны считать, что любое напряжение в отношениях его вина, отнимать ответственность себе, пытаться сделать ещё выше-быстрее-сильнее. В итоге первый неврастеник не будет получать обратной связи, необходимой ему, о том, где он что-то недоделал, где ему ещё надо стараться. Он вроде что-то сделал, получилось плохо, какое-то напряжение в отношениях возникло, и тут бы ему получить претензию. Он бы рад услышать – «ты не сделал вот это» – и побежать вот это делать. А вместо этого другая сторона говорит: «Нет, ты замечательный. Это я виноват. Я пойду всё сделаю». И у неврастеника башка лопается от этого: «Как же так? Это же я должен делать что-то, это же я плохо сделал, это же я виноват, это я должен приложить дополнительные усилия к улучшению отношений». Ему кажется, что он и так виноват перед партнёром, что между ними происходит напряжение, а тот ещё пошел что-то делать. Что в итоге он будет в неоплатном долгу перед партнёром и никогда за это не рассчитается. А если партнёр после этого всё-таки предъявит претензию, что тогда он будет делать, и насколько он тогда окажется виноватым и неполноценным?
И это гораздо более сложная тяжёлая ситуации для неврастеника, чем просто быть постоянно обвинённым. Вот в обвинениях он себя чувствует комфортно, это для него понятная и знакомая ситуация. Так что пары из неврастеников и истериков складываются очень часто.
Читать полностью…
Страдай с толком
06 February 2024 20:17
Ответственная бездеятельность
Как правило, когда мы говорим про принятие ответственности, мы имеем в виду некоторую активность, что человек что-то делает, и в этих своих действиях отражает меру своей ответственности. Человека, который перед лицом каких-то проблем ничего не делает, мы называем безответственным. А привлечением к ответственности мы обычно называем принуждение что-то сделать.
Например, привлечение к ответственности за преступление часто означает принуждение заплатить штраф, отсидеть сколько-то лет в тюрьме или взять на себя какие-то ограничения типа запрета работать на определённых должностях. Но ответственность – это не всегда действие. Я уже неоднократно говорил о том, что удобно ответственность трактовать как подчинение последствиям. С этой точки зрения, подчинение может быть не только активным, но и пассивным. То есть с полной ответственностью можно позволить себе бездействовать, в том случае, если вы готовы пережить последствия своего бездействия.
Если я сижу и ничего не делаю, в то время как горит мой дом, то со стороны выглядит как будто я веду себя безответственно. Как правило, в 99% случаев так и будет. Но ответственность – это не обязательно суетиться, бегать и что-то решать. Иногда я могу с полной ответственностью сказать, что сейчас горящий дом не старший мой приоритет, и я ответственно принимаю последствия того, что он продолжит гореть, а я сам в это время буду заниматься чем-то другим. Это не менее ответственное решение, это не избегание ответственности, это не уход от неё, не подавление, не игнорирование. Это вполне себе может быть легитимной формой реализации ответственности: я согласился на какие-то последствия. Может быть, я их не хотел, но чего-то другого я не хотел ещё больше.
Таким образом, если человек не имеет времени, сил или имеет другие приоритеты – это не обязательно делает его безответственным. Это вполне может означать, что он ответственно принимает на себя последствия своего бездействия.
Практическое значение этого различия состоит в том, как человек потом будет присваивать само событие и всё, что с ним связано. Потому что одно дело, если я своей безответственностью позволил чему-то произойти. Другое дело, если я согласился на какую-то сделку, может быть, я даже пожалел потом, но в тот момент, когда я это сделал, я понимал, что я делаю, и я был согласен на то, что произойдёт потом. И это тоже форма принятия ответственности.
Читать полностью…
Страдай с толком
01 February 2024 20:17
Катастрофический сценарий
Есть хороший когнитивный инструмент по борьбе с тревогой и катастрофическими фантазиями, который состоит в том, что клиент сам по себе или при помощи психолога генерирует катастрофический сценарий, по поводу которого переживает, и придумывает способ справиться с этим сценарием на случай его возникновения.
Например, аэрофобы получают инструкцию при посадке самолёта – быть внимательными к тому, что рассказывает стюард или стюардесса. Соответственно, внимательно читать раздатки, которые находятся в креслах спереди, и посчитать количество рядов до запасного выхода, чтобы в случае чего быть готовым доползти необходимое количество проёмов кресел, не потерявшись.
То же самое верно для других потенциально тревожных ситуаций. Люди генерируют способы справиться с катастрофическим сценарием в случае ситуации публичного выступления, несдачей экзамена, неудачно проведённого свидания, чего угодно. Хороший, годный инструмент, ничего плохого о нём сказать не имею, но почему же я о нём всё-таки пишу, ведь я динамический психолог, а не когнитивный?
Всё потому, что из него можно сделать динамический инструмент и для этого нужно – как всегда, в динамическом подходе – обвинить клиента и вернуть ему ответственность. В частности, после того как катастрофический сценарий сформулирован, и клиент признаётся в том, что в случае абсолютно неуспешного выступления на совещании его уволят, мы называем эту катастрофическую фантазию мастурбационной. Далее говорим: «А почему вы именно этого хотите? Почему вы об этом фантазируете, почему вам это приходит в голову? Процесс фантазирования – это некоторая деятельность. Почему вы сохраняете и продолжаете эту деятельность? Наверное, вы получаете какое-то подкрепление от этого. И единственное подкрепление, которое здесь существует, – это контакт с этим образом. Значит, образ приятный, и какая-то мастурбационная составляющая в этом есть. Чем вам этот сценарий нравится?». И вот тут заканчивается когнитивная терапия и начинается динамическая, потому что от выработки когнитивного навыка совладания с тревогой мы перешли к динамическому поиску вторичных выгод и поводов для самосаботажа. Это в итоге может вернуть клиенту полный объём его тревоги, с которой он начал.
Так что, если задача состояла в том, чтобы только справиться с тревогой, – это, наверное, это не лучший манёвр. Зато он может раскрыть некоторое количество интересных динамических процессов, которые для меня, как динамического терапевта, потенциально гораздо ценнее и, с моей точки зрения, в долгосрочной перспективе гораздо выгоднее для клиента, чем просто снижение тревоги здесь и сейчас.
Читать полностью…
Страдай с толком
18 January 2024 20:15
Преувеличение потребностей
Все знают, что у страха глаза велики. Но не все понимают, что все остальные потребности работают точно так же, как потребность в безопасности. То есть, когда ваша потребность в безопасности не удовлетворена, вам может быть недостаточно того, что вы дома один, в закрытой квартире с двойной дверью и четырьмя замками. Вы можете всё равно бояться бандитов, спецслужб, репрессий, буллинга в интернете и тому подобного.
То же самое работает со всеми остальными потребностями. Если вы очень голодны, то вам кажется, что вы сейчас слона бы съели. Если вы только что кого-то потеряли, то вам кажется, что вы жить не сможете без этого человека. Если вы сексуально фрустрированы, то вам кажется, что вы ужасный сексоголик и маньяк. Если вам кажется, что ваша потребность в границах и собственном пространстве тяжело фрустрирована, то вам начинает казаться, что вы хотите быть тираном и всех вокруг задавить. В связи с этим получается неприятная такая петля обратной связи, когда потребность оказывается фрустрирована настолько, что ваше представление о том, что нужно чтобы её удовлетворить, демонизирует эту потребность и делает её бесперспективной для удовлетворения. То есть, когда вы настолько фрустрировали свою потребность, что, как только вы её касаетесь, вы ощущаете такую невероятную нужду и такой объём фантазирования о том, что вам нужно, чтобы эта потребность удовлетворилась, что вы даже не пытаетесь её удовлетворять. Вы говорите себе: «Ладно-понятно. Эту потребность удовлетворить нельзя. Буду жить с фрустрированной потребностью или вообще как-нибудь без неё».
То же самое происходит и с чужими потребностями. Например, когда один партнёр постоянно сексуально фрустрирован, и из-за того, что он сексуально фрустрирован, он постоянно делает адвансы в сторону второго партнёра. В итоге обоим начинает казаться, что это какая-то непрекращающаяся бездна, что это не человек, а нимфоманка или сексоголик. Хотя, на самом деле, если вы начнёте удовлетворять эту потребность, если вы сядете поесть со всем своим голодом; если вы убедитесь в том, что у вас достаточно денег; если вы отстоите себе один ящик в столе, в который никто не залезает и в котором лежат только ваши вещи; если вы займётесь сексом хотя бы на 1 раз в неделю больше – то вполне возможно, что окажется, что ваша потребность гораздо быстрее удовлетворяется, чем вам изначально казалось.
Оказывается, что горе, которое кажется непереживаемым, неисчерпаемым, переживается за считанные недели, максимум месяцы. Оказывается, что обида, злость, ненависть, которые можно было носить в себе десятилетиями из страха к ним прикоснуться, вполне конечны. Оказывается, для того чтобы партнёр не казался постоянно озабоченным сексуальным маньяком, достаточно заниматься сексом на 1 раз в неделю больше. Чтобы партнёр не казался постоянно ноющим инфантильным ребёнком, достаточно на полчаса в неделю больше его слушать, или выделить хотя бы один вечер, чтобы вникнуть в то, о чём человек говорит.
В общем, достаточно часто потребность (своя или чужая), которая кажется невосполнимой, более чем доступна к удовлетворению. Просто вы боитесь за неё браться, потому что вы её так долго не удовлетворяли, что вам теперь кажется, что там какой-то монстр на цепи, которому, не дай бог, нельзя позволять сбежать. А там никакой не монстр. Наша психика ограничена нашей нервной системой, у которой есть пределы насыщения, есть ограниченный объём эмоций, которые мы можем пережить, ограниченный объём напряжения, который мы можем выдержать. В том числе – ограниченная глубина потребности, с которой мы можем жить.
Эта глубина вполне насыщаема, если вы делаете правильную вещь, а именно – удовлетворяете именно ту потребность, которая у вас фрустрирована, а не пытаетесь её заместить каким-нибудь невротическим механизмом.
Читать полностью…
Страдай с толком
09 January 2024 20:18
Хотеть то, что нравится
Слегка опаздывая после Нового Года, но продолжая предыдущую тему, хочется обратить внимание на процесс формирования желаний. В частности, на процесс выбора объекта желания.
Очень часто люди хотят чего-то, потому что они ждут от объекта своего желания определённого изменения своего состояния и эмоций. Люди хотят чего-то: миллион долларов, машину, соседку, Нобелевскую премию, похвалу от мамы, кубики пресса. И они думают, ждут, фантазируют о том, что это доставит им какое-то удовольствие, осчастливит их, сделает их жизнь лучше, они будут рады, довольны тому, что они этого добились. Источником таких ожиданий может быть конкретный авторитет, местная культура, непосредственное окружение.
Проблема, как мы только что обсуждали в предыдущем посте, состоит в том, что люди не очень хороши в том, чтобы предсказывать, что и как на них повлияет. Более того, люди в этом, мягко говоря, плохи. Особенно это хорошо заметно в теме сексуальных фантазий, когда самые смелые сексуальные фантазии практически никогда не оказываются настолько приятными в случае их исполнения, насколько они казались на этапе фантазирования. А достаточно часто оказываются разочаровывающими, вплоть до травмирующего опыта.
То есть множество желаемых объектов делится на две категории: вещи, про которые человек знает из опыта, что они ему нравятся и улучшают его жизнь, и вещи, от которых он ожидает такого эффекта, но пока его не получил или даже возможно получил обратный.
Хотеть чего-то и получить что-то – это принципиально разные психические процессы. Фантазировать о чём-то, получать удовольствие от конструирования сценария в своей голове и проживать эти сценарии – это совершенно разные вещи. Конечно, я всячески призываю и одобряю экспериментирование и проверку своих фантазий реальностью, и если вы о чём-то фантазируете, и вам чего-то хочется, то, конечно же, идите попробуйте это сделать. Вполне вероятно, что вы обнаружите для себя полезное.
Но я при этом призываю, во-первых, занизить ожидания, то есть быть готовым к тому, что ваша фантазия окажется разочаровывающей. А во-вторых, почаще хотеть того, про что уже известно, что оно вам нравится. Следить за тем, чтобы в множестве желаемых объектов превалировали те, достижение которых точно окупится, то есть принесёт удовольствие, радость или счастье.
Потому что если этого не делать, если наполнять список желаемого только непроверенными объектами, про которые ещё неизвестно будет ли хорошо их реализовать, то рано или поздно окажешься в ситуации когда заявленные желания достигнуты, но потребности стали только фрустрированнее. А это – прямой путь к ощущению, что чего-то хотеть бесполезно, жизнь вообще не мила, ничего хорошего в ней нет, и можно только от неё анестезироваться.
Читать полностью…
Страдай с толком
23 December 2023 20:15
Ложная ассертивность
Давайте поговорим об умении отстаивать границы. Ещё лучше о неумении их отстаивать. А ещё лучше, о том, как люди не умеют отстаивать границы, при том, что считают, что умеют. Достаточно часто можно столкнуться с ситуацией, когда есть человек, про которого все думают, что он отлично умеет отстаивать границы, включая его самого. Который, может быть, даже имеет репутацию агрессивного, воинственного, злого; возможно, даже склонного к насилию, эгоцентричного; может, даже авторитарного; на которого, где сядешь там и слезешь; к которому не подступиться; которому палец в рот не клади, он по плечо руку откусит – и при ближайшем рассмотрении оказывается, что этот человек не умеет отстаивать границы от слова совсем. Как же так происходит? А для того, чтобы это понять, надо понять, что такое границы.
Граница – это линия различения двух объектов. Для того, чтобы была граница, нужно как минимум два объекта: Я и не-Я. Ну хотя бы. Только достаточно часто вместо ассертивности, то есть вместо отстаивания своих границ, люди учатся такому трюку, что вместо отстаивания границ они сносят внешние объекты к чёртовой матери. Особенно среди мужчин это распространено, особенно среди внешне социально успешных. То есть вот есть Вася, и никого больше вокруг Васи. Вася приходит, и всё – вокруг него людей нет. Он будет требовать, не считаясь ни с кем. Он заработает репутацию крайне ассертивного, крайне наглого, добьётся ото всех, чего хочет, но это не потому, что Вася умеет отстаивать границы. Это как раз потому, что он не умеет этого делать. Это как раз потому, что он не знает, где здесь его, где – чужое. Если он допустит мысль, что где-то эти границы есть, что он должен где-то себя остановить, а другой имеет право ему возразить, то Васе покажется, что его границы нарушены, потому что он безбрежен. И когда кто-то ему говорит, что он берега попутал, он это воспринимает как атаку на себя и как агрессию.
Оборотной стороной такого феномена является то, что с людьми, которые входят в Я, которые оказываются в ближнем круге, которых не хочется сшивать как шашки с доски при игре в «Чапаева», такой человек вообще не отстаивает границы. Потому что они по эту сторону, они часть его, и с ними никакого отстаивания границ и быть не может. И вот мы получаем условного злого, агрессивного директора компании, который может своих подчинённых нагнуть, своих партнёров, налоговую, пожарную инспекцию и всех подряд тоже нагнуть, а потом прийти домой и не в состоянии объяснить жене, что он сейчас устал и не хочет выбрасывать мусор. Она ему все мозги проест, а он ни слова не пикнет.
И это не потому, что он лицемер. Это не потому, что он так любит жену. Это потому, что в его голове такого понятия как границы вообще не существует. У него есть люди, с которыми он слит воедино, в абсолютно созависимых отношениях и – все остальные. Внутренний круг и внешний: есть Я в которого входят близкие, и внешний мир в котором вообще людей нет, есть только ещё не освоенные ресурсы. С теми, кто Я, границ нет, потому что они часть его, он здесь с ними в единой системе, его ресурсы – это их ресурсы. И есть те, кто не-Я. А те, кто не-Я, это вообще не люди, их я буду раскидывать как фигуры. И такие люди очень искренне заблуждаются, они думают, что очень хорошо умеют отстаивать границы. Но, вообще-то говоря, ничуть не бывало. Отстоять границы не путём выхода из отношений, не путём того, чтобы выкинуть человека из ближнего круга во внешний круг, не путём того, чтобы просто отказаться от того, чтобы считаться с другим человеком, такие люди вполне могут не суметь.
Посему это непростая задача – учить отстаивать границы человека, который считает, что он в этом мастер спорта.
Читать полностью…
Страдай с толком
14 December 2023 20:18
Психодиализ
Есть медицинская процедура – гемодиализ. Гемодиализ – это способ заместить функцию почек в ситуации, когда собственные почки пациента полностью перестали работать. Кровь выводится из организма, пропускается через устройство, которое её чистит, и возвращается обратно уже очищенной. Процедура занимает несколько часов, проходить её надо несколько раз в неделю, она налагает серьёзные ограничения по диете, образу жизни, и сама по себе довольно рискованная. Однако она предпочтительнее медленной и мучительной смерти от почечной недостаточности. Для большинства других органов подобного искусственного заместителя нет. Нет гемодиализа для печени или пищеварения, которое позволяло бы как-то справляться с проблемой отсутствия ЖКТ. Но нечто подобное иногда происходит с мозгом, а точнее – с личностью – в кабинете психолога.
Некоторые психологи, к сожалению, это практикуют, и некоторые клиенты тоже приходят с запросом на психодиализ. Вместо того, чтобы решать какую-то проблему, как-то развиваться, изменяться, куда-то двигаться, становиться другим человеком или хотя бы по-когнитивистски просто учиться думать другие мысли и отращивать другие рефлексы, человек остаётся тем же самым. Он приходит к психологу, который выполняет за него функцию его личности. За него думает, за него работает, за него приходит к решениям, следит за эмоциями, подсказывает, когда клиент напряжён. Не обязательно даже значит, что психолог ему даёт какие-то прямые указания, но он за него проделывает работу, которую клиент мог бы проделать сам.
Проблем у этого подхода несколько. Во-первых, подобно тому, как на гемодиализе, даже если почки хоть немного работали они окончательно перестают работать прям до нуля. Точно так же это происходит при психодиализе. Организм наш очень ленив, и если можно что-то перестать вырабатывать, потому что это поступает снаружи, то он перестаёт это делать. То же самое относится к психическим процессам. Если можно перестать рефлексировать, осознавать, чувствовать, помнить или прикладывать усилия, то будьте уверены, человек перестанет.
Во-вторых, этим часто подменяют движение вперёд. Изначально у человека был один запрос или ожидания: развиваться, стать другим человеком. Потом он в рамках сопротивления скатился от запроса в попытку устроить из психотерапии психодиализ, и психолог – по недосмотру или по злоумышленному желанию оставить при себе клиента навсегда – на это согласился и превратил их работу в психодиализ.
В-третьих, это достаточно сильно привязывает человека к конкретному психологу. Психотерапия сильно связана с конкретным психотерапевтическим тандемом, и, безусловно, замена психолога на другого, пусть даже в том же методе работающего, это болезненная процедура, но принципиально переносимая. То есть потеря психолога, если мы не говорим про интимные, особенно болезненные моменты терапии, как правило, не приводит к тяжёлому кризису. Потеря же психолога, с которым устоялась практика психодиализа, опрокидывает человека, потому что он уже разучился жить сам.
Что делать, чтобы не проваливаться в психодиализ? Прежде всего, смотреть на интенсивность терапии. Психодиализ подразумевает высокую частоту (несколько раз в неделю) и большой объём работы (часто не по часу за раз). Психодиализ не приносит никакого улучшения жизни, возможно, даже потихоньку качество жизни сползает. Тут помогает практика регулярного пересмотра результатов и присвоения успехов или внимание к их отсутствию. Также помогает хорошее понимание контракта и того, чем мы здесь должны заниматься. То есть зачем психолог и клиент встретились и потратили друг на друга время, и следование этому контракту. Это то, за чем вам могут следить обе стороны.
То, что может делать со своей стороны только психолог, – это, конечно, следовать правилам Перлза, что психолог должен быть глуп, ленив и аморален. Если психолог додумывает за клиента, доделывает и дооценивает, то есть нехилый риск превратиться в машину по психодиализу.
Читать полностью…
Страдай с толком
21 November 2023 20:19
Форма ограничивает содержание
Есть важный момент в личностном росте, до которого не все доходят. Момент, когда человек осознаёт, что форма не определяет содержание, что действие ≠ поступок, что объективное не детерминирует субъективное.
Это важный шаг на пути к психологическому благополучию, потому что одним махом избавляет от целого класса иллюзий, проблем и мискоммуникаций. Но, как это часто бывает с великими экзистенциальными осознаниями, этот инсайт провоцирует к тому, чтобы заваливаться в противоположную крайность и приходить к мнению, что между формой и содержанием нет вовсе никакой связи. Что тоже неверно. Форма не задаёт содержание, форма его ограничивает. Нельзя впихнуть невпихуемое. Если мы смотрим на закрытую коробку, лежащую на столе, мы можем не знать, находится там подарок, бомба или там пусто, но мы явно знаем, что там нет Empire State Building.
То же самое и в отношениях. Хотя форма не определяет содержание, она его ограничивает. Если один человек содержит другого, будь то муж, содержащий жену, жена – мужа, родители – детей или дети – родителей. Это некоторый формальный критерий в этой ситуации – из чьих рук в чьи распределять деньги. Но эта формальность не оставляет пространства для того, чтобы содержанием ситуации была независимость между этими людьми. То есть можно предположить зависимость в одну сторону: что тот, кто даёт деньги, контролирует того, кому они даются. Можно предположить и в обратную: тот, кто получает деньги, получает их в силу того, что у него есть какая-то власть над их источником. Но совершенно точно нельзя предположить, что эти два человека независимы друг от друга и сепарированы в личных отношениях. Между ними точно есть какая-то властная динамика, вопрос только в том, в какую сторону и насколько амплитудная.
Если человек прерывает контакт и уходит – это формальность и объективное наблюдение. Содержание же этого поступка может быть очень разным. Может быть, это форма агрессии, пассивной агрессии, отказ во внимании или silent treatment. Может быть, наоборот, это забота о втором человеке. Может быть, это способ сберечь второго человека от амплитуды своих эмоций и попытка пойти проветриться, прежде чем возвращаться к предложению общения. То есть содержание может быть диаметрально противоположным, но какого содержания в этом точно не может быть – так это попытки наладить контакт. Потому что эта форма ограничивает содержание. Невозможно развернувшись и прервав контакт, наладить его. Это в любом случае не попытка его выстроить. Такое поведение, каким бы ни было в содержании, само по себе не приведёт к улучшению контакта, потому что форма ограничивает это содержание.
Если человек постоянно о чём-то думает это может иметь самое разное содержание. Человек может думать о том, что ему нравится; что не нравится; о том, что его тревожит; к чему он стремится; чего он избегает; но совершенно точно нельзя сказать, что предмет частых мыслей и переживаний ему безразличен. Чем больше усилий вы вкладываете в то, чтобы показать, как вам что-то безразлично, тем более ложным становится ваш месседж. Если вам что-то действительно безразлично, вы не прикладываете усилий к тому, чтобы вообще помнить о существовании этой вещи. Так же как вы редко задаетесь вопросом срока формирования яиц у пятнистого эублефара, если только вы не специалист по рептилиям.
Так что важно понимать, что инсайт про то, что форма не определяет содержание, как и большинство великих инсайтов, хорош дозированно. У этого инсайта есть граница применимости, а именно, что связь между формой и содержанием – односторонняя и только негативная. То есть форма ограничивает содержание, не задаёт его, но она всё равно есть, и не в каждую форму можно поместить любое содержание.
Читать полностью…
Страдай с толком
14 November 2023 20:17
Желания и ожидания
Продолжая плеяду текстов по различению двух близко стоящих в общественном сознании феноменов, давайте поговорим про разницу между ожиданием и желанием. Как всегда, с первого взгляда кажется сложным перепутать эти феномены.
Вроде бы то, чего я жду, и то, чего я хочу, – это понятные категории. Не должно быть никакой психологической премудрости. К сожалению, на практике всё происходит, как всегда. А именно: если вы спросите, чего сейчас больше всего хочет одиннадцатиклассник, то вы узнаете, что в среднем он хочет закончить школу. Но если вы поковыряетесь в том, хочет ли он заканчивать школу и хочет ли всех тех изменений, которые в его жизнь это событие принесёт, а также всех тех усилий, которые нужно сделать, чтобы до этого события добраться, то окажется, что вертел он это завершение школы на известной оси вращения. Вместо этого он хочет чего-то совершенно другого, но он понимает, что чего-то другого не получит. Поэтому он ждёт окончания школы, на него нацелен и прикладывает к этому усилия.
Вот здесь и происходит такая подстановка желания и ожидания, о которой я хочу поговорить. Вообще-то говоря, желание – это то, ради чего мы прикладываем усилия. Поэтому мы можем перепутать то, к чему мы прикладываем усилия, с тем, чего мы хотим. Может оказаться, что если одиннадцатиклассник прикладывает усилия к тому, чтобы как-то закончить школу нормально, то, наверное, он и хочет её закончить. Если вы прикладываете усилия к тому, чтобы закрыть проект на работе, то, наверное, этого и хотите и так далее. Таким образом, мы можем поместить то, чего мы ждём, в категорию желания. Тут нет противоречия с одной из предыдущих идей в том, что если мы что-то делаем, то мы явно чего-то хотим. Потому что, безусловно, человек чего-то хочет в этот момент. Например, он хочет, чтобы ожидаемое событие прошло не так плохо, чтобы случился не худший из возможных ожидаемых сценариев. Желание здесь действительно замешано, но это вынужденное желание, которое связано с тем, что человек уже смирился с предстоящей перспективой, а не с тем, что сама перспектива желанна.
До сих пор я иллюстрировал ситуации, в которых человек ожидаемое помещает в категорию желаемого. Возможна ли обратная ситуация, когда мы желаемое помещаем в категорию ожидаемого? Сколько угодно. Девушки ждут, когда они похудеют. Молодые люди ждут, когда у них появится девушка или когда имеющаяся девушка внезапно проснётся нимфоманкой. Те, кому не повезло всё-таки встретить нимфоманку, ждут, когда же она насытится и успокоится. Все чего-то ждут и постоянно в категорию ожидаемого попадает то, чего нет причин прогнозировать, что произойдёт. То есть это вовсе и не ожидание, а вполне себе желание. Более того, это такая мечта или фантазия, и что-то больше про психику человека, чем про то, к чему ведут события фактически материального мира. Надо ли говорить о том, что обе эти ошибки не повышают эффективность человека?
Посчитать то, чего вы хотите, тем, чего вы ждёте, очень часто означает отказаться от, во-первых, взвешенного анализа, возможно ли это вообще и насколько. А во-вторых, от активных действий по достижению этого, потому что если вы чего-то уже ждёте, то зачем к этому какие-то усилия прикладывать, можно продолжать сидеть и ждать. Как в той поговорке: «Ты главное жди, и ничего не изменится».
Если вы ожидаемое называете желаемым, то у вас могут возникать к себе вопросы, а почему это вы такой ленивый раздолбай, ведь если вы так хотите, почему тогда так плохо делаете. Наверное, посчитаете вы, у вас низкая самооценка, прокрастинация, слабая префронтальная кора, плохая генетика и запоротая карма. А на самом деле, причина в том, что вы просто этого не хотите.
Читать полностью…
Страдай с толком
09 November 2023 20:17
Заслуженные отношения
Есть популярное представление, что хорошие отношения надо заслужить. Нет ничего более далёкого от правды. Хорошее отношение, хорошие поступки, любовь, а также плохое отношение, обиду и ненависть невозможно заслужить.
Понятие заслуги – это некоторая имплицитная апелляция к высшей инстанции в виде справедливости. Это убеждение, что есть какой-то справедливый табель о рангах, и люди, которые ведут себя хорошо, на 10 из 10, заслуживают хорошего отношения тоже на 10 из 10; те, кто ведут себя на 5 из 10, заслуживают на 5 из 10. То есть якобы есть какое-то соответствие между тем, насколько хорошо себя ведёт человек по какой-то системе ценностей, и что он получает в ответ. Забавно при этом, что система ценностей может быть не определена, внутренне противоречива или не совпадать с чужими или общепринятыми системами ценностей. Но это не так важно. Важно то, что какая-то система ценностей в голове у конкретного человека всегда есть, даже если и весьма размытая. Также есть у него представление о справедливости и о том, что если он ведёт себя в соответствии с этими ценностями, то получает что «заслуживает».
Реальность, к сожалению, или к счастью, так не работает. В реальности никакой справедливости нет, но у действий есть последствия. Эта мысль сложно даётся большинству людей, даже образованным и сильно пролеченным. Это такие высокие уровни дзена, поэтому постарайтесь не заработать грыжу, осмысляя её. Она звучит просто, но на самом деле применять ёе в жизни не у всех получается. Тем не менее, я её до вас ещё раз донесу: никакой справедливости нет, просто у действий есть последствия. Если человек ищет, запрашивает, поощряет и принимает к себе какое-то отношение, то именно такое отношение он и получает. Если он не принимает, не поощряет, не запрашивает или не ищет какого-то отношения, то у него в жизни этого отношения и нет. При этом это никак не соотносится с его собственными заслугами в смысле поведения, соответствующего ценностям.
Если человек ищет людей, которые к нему хорошо относятся, запрашивает хорошее отношение к себе, поощряет его каким-то образом (благодарностью или хотя бы демонстрацией своего удовольствия от получения такого отношения) и отказывается принимать другое отношение, то, вы не поверите, но вокруг него будут люди, которые к нему хорошо относятся. Человек при этом может быть скотиной, мразью, подлецом и дрянью, но это никакого отношения к тому, как к нему окружающие относятся, не имеет. Верно и обратное.
Человек может быть лапочкой, заботушкой и радостью всеобщей, но, если любые попытки хорошо к нему относиться, он отвергает, а к людям, которые к нему плохо относятся, его тянет, как вы думаете, как к нему будут относиться и из какого отношения к нему будет состоять его жизнь?
Вот такая простая, максимально несправедливая, но максимально беспощадно работающая механика. У действий есть последствия. И эти последствия абсолютно плевать хотели на ваши ценности, представления о справедливости и заслуги.
Читать полностью…
Страдай с толком
31 October 2023 20:14
Здоровые страдания
Продолжая предыдущую тему, давайте поговорим про то, что страдать – это тоже работа. Так как же страдать правильно, и есть ли такой способ? Люди вечно задают эти вопросы психологам. Как мне что-то пережить? Как мне отреагировать какую-то эмоцию? Как мне позлиться? Как мне отгоревать? Как мне обидеться? Как мне возмутиться? Как мне обрадоваться? Не переживайте, у меня есть для вас ответ, но, если вы какое-то время уже читаете мой канал, наверное, догадываетесь, что он вам не понравится. Ответ: никак.
Пережить эмоцию – это не что-то, что требует от вас сложной техники исполнения. Конечно, есть инструменты, помогающие разгонять этот процесс, но это такая же физиология (точнее: нейрофизиология, но все ещё физиология) вашего тела как, простите, процесс пищеварения или мочевыведения. Вы же не задаёте себе вопрос, как вам вывести отходы жизнедеятельности. Вы просто позволяете себе это сделать, и тело справляется.
С эмоциями то же самое. Нет никакой инструкции, как это сделать правильно, если не считать инструкции по правильному подбору места и уместности социального контекста. Тут могу подсказать вам: делиться страданиями лучше с близкими людьми, с которыми у вас хорошие отношения, чем со случайными бомжами на улице. Но сам процесс не требует от вас никакого дополнительного знания. Всё, что вам нужно, – этому процессу не мешать. И вот это самое сложное, потому что проблема не в том, что вы не научились или вас не научили злиться, горевать и тому подобное. Проблема в том, что вас (а если вы задаетесь таким вопросом, то это про вас) научили эти эмоции не переживать.
Вы с большой вероятностью родились здоровым ребёнком, у которого всё было нормально с эмоциями, который орал от души, и никак вообще его не заботил социальный контекст и недовольство мамы. Но вас годами и десятилетиями тренировали на то, чтобы какие-то эмоции считать плохими, какие-то – табуированными, какие-то – запрещёнными в адрес конкретных людей, в конкретных ситуациях или в конкретных сочетаниях. Ваша проблема состоит не в том, что вам забыли выдать инструкцию к вашим эмоциям. Проблема в том, что вас нагрузили инструкцией по их подавлению.
Всё, что вам надо сделать, чтобы эти эмоции случились – это отказаться от подавления этой эмоции, перестать себя саботировать, перестать защищаться, переключать внимание, оправдывать и оправдываться. И вот это сложно.
Читать полностью…
Страдай с толком
26 October 2023 21:14
Cogito, ergo sum
Всего 4 века назад Рене Декарт в поисках оснований считать, что он существует, пришёл к выводу, что раз он задаётся этим вопросом, то есть производит некоторое действие, то немыслимо было бы представить, что действие происходит без субъекта этого действия. Раз действие самоочевидно, значит, оно подразумевает существование субъекта. Таким образом, он увековечил фразу: «Мыслю, следовательно, существую». Этот принцип применим и в психологии. По крайней мере, в динамической школе.
Поскольку, как вы знаете, в моей секте принято верить, что личность – это система отношений, то если сформировать какое-то отношение из новой, возможно, неожиданной для себя позиции, то в каком-то смысле это уже меняет личность. Или если эта позиция максимально далека и находится в конфликте с вашей текущей личностью, то можно начать создавать и укреплять другую версию себя. Тут не стоит путать личность и самость. С самостью ничего не поделаешь, а вот личность можно снимать, надевать, принимать и отказываться. Личность – это костюм.
Берём клиента Васю и спрашиваем его, как он относится к тому, что его жена не работает. И он говорит: «Плохо отношусь. Что за ерунда, что за матриархат, почему я должен её обеспечивать?». Мы говорим: «Хорошо, ну матриархат матриархатом, но ты же сам заявил себя как главу семьи, разве нет? Где матриархат, там и патриархат неподалёку. С позиции главы семьи и патриарха, как ты относишься к тому, что твоя жена не работает?». Он говорит: «Ну, как патриарх, я должен к этому относиться нормально, потому что женщина в патриархальной системе не создана для труда. По крайней мере, для официальной работы». Как только он создаёт новое отношение из новой позиции, начинает разглядывать мир через призму этой версии себя, у него появляется точка отсчёта, от которой можно эту новую личность строить. Он уже понимает, хотя бы в этом узком контексте, хотя бы в этом конкретном инстансе, каково это быть патриархом. Это, например, считать, что, если твоя жена не работает и проживает твои деньги, – это нормально. Ну вот жизнь с патриархальными устоями – она такая.
Таким образом, если человек хочет меняться, одним из важных инструментов, которым можно пользоваться, – это задаваться вопросами о том, как выглядит текущая ситуация, как можно к ней отнестись с позиции того себя, которым я собрался быть. Это некоторым образом приближает эту, пока ещё виртуальную версию себя, к некоторой реальности. Перефразируя Декарта, можно сказать: «Отношусь, значит, существую».
Читать полностью…
Страдай с толком
24 October 2023 21:14
Ложные существительные
Имя существительное – это часть речи, обозначающая некоторый феномен. По умолчанию, само по себе существительное не имеет оценки.
Если я говорю «стол», это ни хорошо и ни плохо. Если я говорю «ветер», это ни хорошо и ни плохо. Те или иные объекты, которые названы именами существительными, в определённом контексте могут получить ту или иную коннотацию. Если я закричу в военной части: «Тревога!», – то вряд ли этого кого-то обрадует. Но если я крикну это, например, со сцены в театре, вполне может быть, что я это делаю для поднятия вашего настроения.
Тем не менее, есть ложные существительные, которые прикидываются существительными, то есть словами, называющимися как какой-то объект. Но на деле они обозначают не объект, а отношение. Например, каприз. Что такое каприз? Каприз – это имя существительное, но оно не описывает никакой объект. Каприз – это отношение. Каприз – это желание, которое я не уважаю.
Навязчивость – это существительное. Но есть другое существительное – настойчивость. В нашей культуре навязчивость имеет негативную коннотацию, а настойчивость – позитивную. Однако ни то, ни другое не является подлинным существительным, потому что они описывают один и тот же феномен. Просто настойчивость – это поведение, которое нам нравится, и когда мы довольны тем, что человек продолжает свои усилия, а навязчивость – поведение, которое нам не нравится, но это то же самое поведение. Вот если бы у меня было слово, которое обозначает стол, который мне не нравится, это бы тоже было ложным существительным. Но такого слова нет, а слово, обозначающее чужое упорство, которое я не одобряю, у меня есть.
На такие ложные существительные стоит обращать внимание. Мало того, что их можно протащить под девизом того, что вы просто описываете объекты в системе коммуникаций, вообще не подразумевающей оценки, так ещё можно недоумевать, почему у вас такие проблемы с тем, чтобы сформировать какое-то непредвзятое отношение к чему-то. А откуда возьмётся непредвзятое отношение, если терминология, которой вы что-то описываете, сама по себе уже содержит отношение?
Если вы что-то уже назвали прихотью, отношение уже заложено в слово. Вы не можете объективно давать оценку чему-то, что уже названо прихотью, жестокостью, гордыней. Вам сначала надо отказаться от этого слова, сказать что-то нейтральное, подобрать подлинное существительное, не содержащее в себе отношение. Например, сказать не «прихоть», а «желание». Не «у Васи прихоть, блажь или каприз», а «Вася хочет». И вот если «Вася хочет», к этому уже можно как-то относиться. А если у Васи «блажь», то тут уже всё украдено до нас, и отношение к происходящему продиктовано самим словом.
Читать полностью…
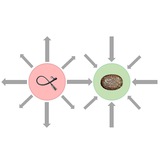
 15880
15880