Страдай с толком
11 July 2023 21:16
«Ерундовые» психотравмы
Иногда, особенно в начале карьеры, или даже в начале обучения, когда карьера ещё не началась, психологи удивляются тому, какие, казалось бы, случайные и вроде бы не значимые вещи, люди приносят как свои ядерные страдания и пример ужасной психологической травмы.
Одно неудачно брошенное слово, которое без контекста может вообще не выглядеть ничем плохим. Одна чья-то неудачная шутка или какое-то внешне нейтральное телесное взаимодействие. Вовремя не подаренный подарок (даже если он желанный), несдержанное обещание. Это – малейшие вещи, которые сами по себе, если о них рассказать непрофессионалу, что они стали глубокой травмой, могут вызвать обвинения человека в симуляции, истерии и в том, что он из мухи раздувает слона. Но если немножко пообтереться в психологии, посмотреть на предысторию этой ситуации, контекст и личное значение для человека, то выясняется, что это вполне себе легитимная травма. Само финальное событие – это буквально соломинка, переломившая хребет верблюду. То последнее слово, которое могло быть произнесено спокойный тоном голоса в какой-то совершенно нейтральной фразе, – это даже не вершина айсберга, а отблеск, издалека замеченный от вершины айсберга. За этим событием стоит огромный накопленный потенциал напряжения, который в этот момент в этой точке выплеснулся. Поскольку память тесно связана с эмоциями, то человеку остро запомнился именно этот момент, потому что он в этот момент пережил яркие амплитудные эмоции. Это не значит, что само по себе это событие и было тем, что его травмировало.
Нет, конечно, если кого-то изнасиловали лопатой, окей, годится на статус самодостаточной травмы. Это само по себе травматичное событие. Но очень часто травматичным является не само событие, которое человек помнит, как травму, а цельный, огромный комплекс взаимодействия с источником травмы, контекста, в котором они существовали, предыдущее отношение к человеку, предыдущие смыслы, заложенные в это взаимодействие, которые впоследствии стали травматичными. Финальный момент – это просто момент, когда паззл сложился.
Этот факт, хочется верить, что не сильно сбивает с толку начинающих психологов, потому что есть надежда, что к тому времени, когда они добираются до масштабного консультирования большого количества клиентов, они понимают этот феномен. Однако часто это сильно сбивает с толку клиентов. Особенно тех, кто ещё не обратился и, так сказать, не индоктринировался в психотерапию. «Начинающие» клиенты часто очень скептически и самокритично относятся к таким своим воспоминаниям. Им кажется, что они запомнили какую-то абсолютную ерунду, что природа их эмоций совершенно не соответствует фактическому событию и стыдно говорить об этом даже с психологом, и по этой причине они не приходят с этим запросами. В их представлении к психологу ходят люди, которых насиловали в детстве, скалкой били, на органы продавали, а у них, дескать, ерунда какая-то. Мол, папа меня всего лишь дразнил, придумал мне какую-то, даже не обидную, а просто смешную, кличку.
Тем не менее, это не повод так себя ограничивать. Вполне можно прийти психологу с жалобой на события, которые кажутся травмирующим только вам, и никому другому.
Читать полностью…
Страдай с толком
06 July 2023 21:17
Закон симметрии четных этапов
Жизнь идёт по спирали, и вместе с ней по тому же пути идут психотерапия и психологическое консультирование. Давайте представим проекцию спирали на плоскости, что это будет? Правильно, это круг. Именно поэтому иногда клиентам в психотерапии кажется, что они ходят по кругу. Это может создавать напряжение, тревогу, вызывать сопротивление и агрессию в адрес психотерапевта, приводить к обрывам терапевтического альянса, выходу из психотерапии, поиску новых психологов, – и всё это только для того, чтобы уткнуться в то, что это происходит заново. А происходит по одной очень простой причине – нельзя всё и сразу.
В первом классе на ноль делить нельзя, потом – можно, потом – нужно. То же самое с психотерапией. Приходит человек к психологу и долго ли, коротко ли, рано или поздно добирается до темы семьи, родителей и детства. Вот он догадывается, что в детстве у него были неидеальные родители и неидеальная жизнь. Даже если в целом его родители – хорошие люди, хорошо к нему относились – всё равно всегда есть, что оценить как не идеальное, дать оценку, пережить и вернуть ответственность. И это длится какое-то время, в зависимости от динамики, мотивации, степени травмированности, контекста, запаса ресурсов клиента, метода, в котором работает психотерапевт, и ряда других факторов. В общем, долго ли, коротко ли, тема заканчивается, и клиент переходит дальше к новым темам.
Следом за родителями, у него потихоньку выкристаллизовывается тема личной ответственности. Вернул ответственность родителям – возьми оставшуюся на себя. Он начинает заниматься своей жизнью, строить новые амбиции, границы, какие-то новые проекты, вроде у него даже что-то начинает получаться, и как будто бы из ниоткуда снова всплывает тема родителей. Как же так? Мы же уже проработали эту тему. Что происходит? Почему опять? А про родителей мы говорим потому, что в прошлый раз клиент осознал те травмы, которые ему были видны тогда, а теперь он поднялся на новый виток своего успеха и, как обычно, с высоты виднее. Теперь с высоты нового успеха клиент понимает, что его можно было бы добиться раньше; что те травмы, которые он раньше считал, что ему просто испортили настроение, на самом деле, не просто его испортили, а отсрочили личностное развитие на годы, возможно, на десятилетия. Он упустил кучу времени своей жизни, прозябая в неуспехе и живя гораздо хуже, чем он мог бы, и если бы он стартовал тогда, а не сейчас, то сейчас он бы жил гораздо лучше. А это уже новый уровень ущербов, который нужно заново осознавать, заново возвращать за них ответственность.
Означает ли это, что это первая сепарация была недостаточна? Можно ли было за первый раз просто всё взять и выскрести? Скорее, нет. Мы работаем с тем человеком, который есть сейчас, на том этапе сепарации, где он сейчас. Невозможно с пришедшим клиентом работать как с человеком, которым клиенту только предстоит стать, условно, через год-другой. Мы работаем с тем, кто есть, в том темпе, в котором получается.
Такой финт происходит не только с темой родителей, со всеми остальными темами тоже: и с границами, и с амбициями, и с вопросами баланса труда и отдыха, и кучей других. Вообще, тем в психотерапии не очень много (то есть содержание у этих тем бесконечно разнообразное, но самих заголовков ограниченное количество), и естественно, что если человек работает достаточно долго и эффективно, чтобы проблемы в конкретной теме заканчивались, а он переходил дальше, то рано или поздно эти темы начнут ротироваться. Рано или поздно он пойдёт на второй круг, на третий, на пятый, на десятый. И пойдёт по тем же самым темам.
Это не повод считать, что до сих пор мы ерундой занимались и только теперь взялись за настоящую работу. Это повод считать, что с высоты виднее, и с высоты своих новых успехов и нового уровня своего развития вы можете прошлые проблемы проработать на новом уровне. Если хотите, конечно. Многие же не хотят и считают, что им это не подходит. И на первом круге, поняв, что пошли на второй виток, терапию заканчивают. Так тоже можно.
Читать полностью…
Страдай с толком
01 July 2023 21:16
Глорификация маркеров и предикторов
Когда чукчи ищут рыбу, они смотрят на чаек. Люди в среднем достаточно умны, чтобы понимать, что некоторые феномены сложно найти сами по себе, и проще найти какие-то их маркеры, которые более заметны. То же самое относится к предикторам. Просто так угадать у кого всё будет хорошо в жизни, а у кого плохо, кто будет успешен в отношениях, кто нет – сложно. Однако есть разные предикторы, на которые можно ориентироваться, и люди очень любят их глорифицировать, придавать им значение далеко за пределами их реальной пользы.
Самые популярные вещи – это внешность, интеллект и деньги. Я – последний человек на этой планете, который будет отрицать важность внешности, интеллекта и денег. Если у вас есть все три, как правило, ваша жизнь достаточно неплоха. Даже один из этих параметров улучшает жизнь довольно неплохо. И всё же нельзя упускать, что одного только наличия этих параметров (даже если они ярко выражены), недостаточно, чтобы жизнь была совсем хороша. Как бы вы ни охотились за дополнительными ноликами на банковском счету, дополнительными кубиками пресса или миллиметрами ресниц, рано или поздно наступает момент, когда выгоднее сделать что-то другое, чем дальше развивать именно этот фактор. Наступает момент, когда выгоднее пойти и потратить деньги, чем их заработать. Наступает момент, когда выгоднее пойти отдохнуть, чем прокачать себе рельефность ещё одной мышцы, пошить себе ещё лучший костюм или ещё на полградуса поправить осанку. Когда лучше лишний раз социализироваться, чем прочитать ещё одну книгу, не говоря уж о получении ещё одного образования. Наступает момент, когда развитие конкретного маркера становится бессмысленным. Можно выглядеть хорошо или очень хорошо, но есть верхний предел, за которым дальнейшее улучшение внешности уже не приносит улучшения качества жизни. Вполне возможно, что выгоднее потратить время и силы на что-то другое: отдых, хобби, общение, обучение чему-то новому, просмотр сериальчиков, секс.
Нет смысла максимизировать формальные маркеры. Эти маркеры сами по себе не делают жизнь лучше. По сию пору лучшим предиктором качества жизни человека является не его интеллект, не уровень его образования, даже не уровень его здоровья, как ни странно, а его географическое положение. Почтовый код, как об этом любят говорить на Западе. Если у вас почтовый код Цюриха, ваша жизнь, скорее всего, будет лучше, чем если у вас почтовый код Уганды, вне зависимости от вашего уровня интеллекта, внешности, количества денег и так далее. Но это же не повод всю свою жизнь потратить на бесконечные переезды за следующим победителем конкурса по самой счастливой стране в мире.
От того что вы приедете в текущую самую счастливую страну в мире, ваша жизнь сама по себе не улучшится. Она улучшится, когда вы начнёте её улучшать, когда вы начнете задаваться вопросом, не «какие маркеры в среднем статистически говорят о том, что у вас будет хорошая жизнь?», а когда вы начнёте задаваться вопросами «что прямо сейчас можно сделать для моей жизни, чтобы она стала лучше?», «какое сейчас самый эффективное использование моих ресурсов?». Потому что вполне возможно, что, если вы поймёте, что вам надо начать высыпаться, то ваша жизнь улучшится и в Уганде. А если вы переедете в Швейцарию, но продолжите спать по три часа в сутки, то даже там она не станет хороша.
Читать полностью…
Страдай с толком
27 June 2023 21:17
План Б
Иметь план Б – хорошо. Я сам большой поклонник планов Б, В, Г, и дальше по алфавиту. У меня большую часть жизни был неприкосновенный запас денег, неприкосновенная часть неприкосновенного запаса и неприкосновенная часть неприкосновенной части неприкосновенного запаса денег. Это не раз меня выручало в самых разных обстоятельствах.
Однако, несмотря на все прелести планирования, как эффективной стратегии таск-менеджмента и когнитивного способа совладания с тревогой, во многих ситуациях план Б измысливать достаточно сложно, ресурсозатратно и главное – очень сильно нагружает план А. Достаточно часто, чтобы план Б был хоть как-то осмысленным, нужно заранее сформулировать план А так, чтобы шаги по нему в случае чего либо заложили основы для плана Б, либо не испортили возможность перейти к плану Б. И это не улучшает ситуацию, а даже её усугубляет.
Я хочу вам предложить идею, что во многих ситуациях здоровый, ресурсный человек, который не в кризисе, не в депрессии, вполне может пользоваться одним и тем же планом Б, состоящим из двух слов: «Я справлюсь». То есть план А – это «я пойду и сделаю это для того, чтобы получилось вот то». План Б: «если план А не получится – сделаю что-нибудь другое, я справлюсь, хоть и понятия не имею как». Импровизировать по ситуации, просто довериться будущему себе, в том, что, когда вы окажетесь в ситуации (даже если она не случится), в которой план А не сработал, у вас хватит психических, физических, экономических, социальных, медицинских ресурсов, чтобы с этой ситуацией справиться, и она вас не разрушила.
Для людей гиперинтеллектуализирующих или гипертревожных (что является сильно пересекающимися множествами) достаточно часто ситуация неопределённости оказывается страшнее, чем любой фактический ущерб. То есть, когда человек не понимает, что ему делать или что будет дальше происходить, то ситуация хаоса для него сама по себе гораздо более страшная, чем любой сфокусированный конкретный ужас. Такие люди всё время руминируют «а что если нет», «а если что-то пойдёт не так», «а если вот то и это», и они сидят и ничего не делают. В это время их жизнь проходит мимо, а они всё мучаются, тревожатся и уходят в депрессию, потому что «нет, ну а что, если не получится».
Это всё происходит от недостатка ощущения полноценности и, что иронично, от завышенной самооценки. Многие люди ассоциируют чувство полноценности с высокой самооценкой. Кажется, что ощущение себя высоко полноценным должно как-то быть связано с высокой самооценкой, но практика показывает, что всё строго наоборот. Человек с самооценкой пониже, который не ставит себе охренительных амбиций, не предъявляет себе претензии за то, что он не сделал всё сразу идеально, одновременно, мгновенно, быстрее всех на свете и не стал самым лучшим – чувствует себя гораздо полноценнее. Он способен на большее и справляется с большим, чем человек с высокой самооценкой, который может много о себе мнить, кучу всего от себя ждать, и поэтому он постоянно сидит в тревоге и чувствует себя неполноценно.
Так вот, таким людям с завышенной самооценкой обращён этот текст. Я предлагаю вам понизить самооценку, отрастить чувство полноценности и полагаться на план Б «я справлюсь».
Читать полностью…
Страдай с толком
22 June 2023 21:15
Смысл жизни
Если вы по заголовку решили, что я вам сейчас расскажу, в чём смысл жизни, то нет, не знаю, на что вы рассчитывали. Естественно, я не выдам вам эту страшную тайну, я это делаю только за деньги. Но я поделюсь другим утверждением, которое мне понравилось. Честно говоря, затрудняюсь сказать, услышал я его ровно в таком виде или столкнулся с его прекурсором, а дальше сам додумал. Так или иначе утверждение состоит в следующем.
Смысл жизни – это некоторая форма бессмертия. Если мы посмотрим на то, что люди называют смыслом жизни, а точнее на вещи, которые они наделяют смыслом жизни, то это всё вещи, которые находятся снаружи них и которые должны пережить их самих. Что неудивительно: смысл всегда находится снаружи от объекта. Смысл ножа не внутри ножа. Смысл ножа в том, чтобы резать вещи, которые не нож. Смысл – это что-то, что находится на пересечении: вне человечности, то есть существует за пределами конкретного человека, но при этом несёт его какой-то персональный оттиск самого человека на себе. Как правило, именно с той его стороны, которую он хочет запечатлеть в вечности.
У людей крайне распространена версия, что смысл их жизни – это дети. Дети – это самая простая форма бессмертия. Вы продолжаете жить, ваши гены идут дальше, частички вашего организма оторвались от вас, продолжили свою жизнь, слились с частичками другого человека и делятся-делятся-делятся – жизненный цикл продолжается. Такой смысл можно рассмотреть как смысл жизни, но дети всё-таки достаточно отличны от нас. Тут ещё нередко бывает, что люди, которые рассматривают детей как смысл жизни, относятся к детям достаточно плохо. То есть их совершенно может не интересовать детская идентичность, их личность, интересы, потребности и границы, что логично, ведь они их рожали не как самостоятельных людей со своими смыслами, а как сосуды для родительского смысла. Люди, которые видят в детях смысл жизни, часто за детей решают, какие у них должны быть потребности и желания. То есть дети – это их идеализированная версия, это то, кем они хотели бы быть, или какими они хотели бы запомниться в истории и оставить след в человечестве. Ну и, конечно же, в таком случае то, что ребёнок захочет быть самостоятельным человеком, сильно демотивирует родителей.
Но это далеко не единственный вариант, есть и другие смыслы жизни, которые создаёт человек. Исследования учёных, которые останутся в истории, и эти люди будут запомнены как учёные; книги, авторы которых останутся в истории как писатели; великие архитектурные сооружения, увековечивающие их архитекторов; спортивные достижения спортсменов и тому подобное. Всё то, что позволяет посвятить этому жизнь, как правило, даёт нам иллюзию того, что наша жизнь в этом продолжится. Преуспев в создании чего-либо или, по крайней мере, став причастным к чему-то (если человек не очень амбициозный, и ему ок быть шестерёнкой общего механизма), человек может справиться с идеей прекращения своего бытия.
Если у человека нет никаких идей о том, кем он останется после своей физической смерти, такая жизнь переживается достаточно часто как бессмысленная. Исследования Селигмана указывают в ту же сторону, что смысл жизни, как правило, связан с чем-то социальным и направлен на других людей. Именно на других людях мы оставляем свой отпечаток, и это придаёт нам некоторый смысл.
Читать полностью…
Страдай с толком
17 June 2023 21:15
Верность ценностям
Некоторое время назад я писал про небесполезность агрессии и о том, что иногда имеет смысл кого-то наказать, проявить в чей-то адрес агрессию, даже когда никакой прагматической цели у этого нет. Сделать это просто для того, чтобы совершить экзистенциально честный поступок с самим собой, таким образом выразить свою позицию и отреагировать свои эмоции. Но строго говоря, можно бы дополнить этот текст утверждением о том, что то же самое справедливо для любого другого поведения.
Для того чтобы как-то себя вести, не обязательно иметь какую-то прагматичную цель, стоящую за этим. Ценности – это такая эвристика оптимизации прагматических целей, но это эвристика, работающая на долгосрочных периодах. Если у человека есть определённая ценность, например, быть верным своему слову, то тактически в конкретных ситуациях соблюдать эту ценность может оказаться крайне не прагматично, но это компенсируется долгосрочными выгодами.
Подобного рода конструктивные ценности выработались не просто так. Они выработались, потому что многотысячелетний человеческий опыт показывает, что если вы придерживаетесь таких ценностей в долгосрочном периоде, идущем далеко за границу просматриваемого горизонта событий, то это улучшает вашу жизнь само по себе. Всё потому, что тогда ваше слово становится веским аргументом, тогда на ваше слово люди могут опираться, и вы можете пользоваться этим. Это становится валютой и очень мощным ресурсом, которым можно пользоваться. Но для того, чтобы он появился, надо в него вкладываться. Как и со всем хорошим: оно не появляется сразу.
То же самое относится ко всем остальным ценностям. Совершенно нормально вести себя достаточно не прагматично относительно ситуативного контекста, но при этом придерживаясь каких-то своих ценностей – честности, пунктуальности, конструктивности, разумности, экономичности и прочих. Если это хорошие ценности, то есть ценности, направленные на улучшение качества жизни, а не на служение воображаемым друзьям на небе, не на служение какой-то идеологии и превосходстве над чем-то, то такое поведение не стоит считать невротическим симптомом. Даже если ситуативно оно доставляет страдание без какой-то очевидной пользы.
Ну и, конечно, при условии, что человек понимает зачем он это делает: это его осознанный поступок, а не рефлекс, и что он может отказаться это делать. То есть он чувствует, что у него есть власть, он присваивает этот поступок, он не чувствует, что ему нельзя поступить иначе, не чувствует, что он вынужден, ему так надо и положено.
Если у вас достаточно ресурсов, так вполне можно себе позволять себя вести.
Читать полностью…
Страдай с толком
15 June 2023 21:15
Невротичность романтики
Один из неприятных выводов, к которому приходят люди на каком-то этапе своей психотерапии (если она продолжительна и успешна) – это то, что здоровая жизнь, по сравнению с нереалистичными завышенными стандартами, которые бывают не только в порнографии, но и вообще-то говоря в любой форме творчества, несколько скучна. То есть всё то, что нам продаётся под девизом невероятной романтики, вообще-то, не очень здоровое поведение. Начиная от продать всё, что имел, и купить миллион алых роз, заканчивая целовать песок, по которому она ходила.
То же самое касается не только романтики полоролевых отношений, но и романтики жизни вообще. То есть да, конечно, положить жизнь на то, чтобы попасть в какие-нибудь списки, получить какие-нибудь премии, медали и так далее – очень романтично. Все мы любим хорошую спортивную драму, через тернии к звёздам, быстрее-выше-сильнее, и вот, наконец, преодолев всё и всех, через тяжёлые тренировки, развитие таланта, подковёрную борьбу, политические интриги, наконец, вы встаёте на подиум и машете маме одной рукой, второй рукой сжимая золотую медаль. Замечательно.
Проблема этих картин, как и проблема множества романтических полоролевых историй, состоит в том, что в этом месте они заканчиваются. Рыцарь спас принцессу из замка, они поженились, и дальше жили долго и счастливо. Спортсмен забрался на первое место на подиуме – хэппи энд. Бизнесмен основал свою компанию мечты, заработал все деньги на свете, получил Нобелевскую премию мира за свой уникальный продукт, вытащил свою компанию из кризиса, и дальше жил долго и счастливо. Всё это, конечно, замечательно, но только, как вы можете заметить, – это стремление к смерти. Если рассматривать свою жизнь как кул стори, то она естественным образом стремится к смерти и к завершению так же, как и любая история стремится к своему завершению. Потому что пока история длится, в ней, во-первых, нет хэппи энда, потому что в ней пока ещё нет вообще никакого энда. А во-вторых, пока она длится, в ней нет таких пиковых переживаний, потому что они как бы отложены на концовку этой книги, а в жизни, как правило, концовка – это больничная палата и капельница под локтем. Не очень похоже на то, что нам продают.
Таким образом, когда человек долечивается до определённого этапа, он начинает понимать, что его предыдущие великие цели больше так не мотивируют. Может быть, он даже начинает жалеть о том, что пошёл на психотерапию, мол, он долечился до того, что больше не такой продуктивный, не так стремится к великим целям, вот хотел быть Наполеоном, а теперь всего лишь простой человек со счастливой жизнью. И это так и есть, психотерапия для этого и существует. Но это не значит, что при психотерапии нельзя добиться великого. Можно. Но только если у вас есть к этому огромный изначальный потенциал, и вы можете добиться великого, не тратя на это всю свою жизнь, не отказываясь от всех остальных сфер. А если вы всё-таки не настолько талантливы, чтобы добиться великого одной левой, в это же время правой строя себе здоровую личную жизнь, здоровый досуг, здоровые отношения с телом, здоровые отношения с отдыхом, то, скорее всего, у вас будет достаточно скучная жизнь по меркам голливуда. Просто она будет вам нравиться, в отличие от того состояния, в котором вы были раньше. То есть, когда вы были (более тяжелым) невротиком, вам такая жизнь не нравилась, вам она казалась скучной, и поэтому вы стремились к великим вершинам. А когда вы поздоровеете, вам станет нормально – просто жить. Вы перестанете ненавидеть свою жизнь настолько, чтобы бежать от неё к каким-то апокалипсисам, но вместе с этим и, правда, потеряете мотивацию к гиперкомпенсации. Просто потому, что компенсировать больше будет не нужно.
Такая вот неромантичная истина.
Читать полностью…
Страдай с толком
06 June 2023 21:16
Критика предпосылки вопроса
Достаточно часто в психологической практике я сталкиваюсь с феноменом, который вполне может встречаться и в повседневной жизни, состоящим в том, что вместо ответа на заданный вопрос человек критикует его предпосылку.
В наиболее яркой форме это выглядит как телесный процесс. Когда я практиковал оффлайн, это было особенно показательно. Например, когда клиент занял какую-нибудь странную позу в кресле (а у меня были большие кресла), подпёр подбородок левой стопой и ещё что-нибудь. Я всегда замечаю такие телесные проявления и спрашиваю, что эта поза значит. И тут, клиента может закорчить так, как будто его бесы одержали, и он сменяет десяток пост за 0.2 секунды, в итоге заканчивает в позиции по стойке смирно и спрашивает: «Какая поза? Никакой позы не было».
То же самое происходит и в других видах взаимодействия. Фёкла может спрашивать Васю в пылу ссоры: «Почему ты на меня кричишь?». Вася, сбавив тон на три голоса, отвечать: «А кто кричит? Я не кричу». Петя может спрашивать Евдотью: «Почему ты сейчас оправдываешь кого-то?», а она – «нет, нет, нет, я не оправдываю». И так далее. С одной стороны, нельзя не похвалить людей, что они обращают внимание на то, что в принципе у вопроса или претензии есть некоторая предпосылка, с которой теоретически можно не соглашаться. В этом смысле, если это рассматривать как навык по борьбе с софистическими приёмами, – садитесь, пять.
С другой стороны, во многих вещах, будь то психологического консультирование или просто отношения между людьми, – это достаточно деструктивная практика. Потому что, как правило, если человек задаёт вопрос (особенно если это психолог) или предъявляет претензию на каком-то основании, то хорошая идея, если уж вы действительно не уверены в том, что это основание соответствует действительности, – как минимум, поинтересоваться у человека, почему он эту предпосылку допустил. Например: «а почему ты считаешь, что я сижу в какой-то особенной позе?», «почему ты считаешь, что я кричу?», «почему ты считаешь, что я кого-то оправдываю?», «почему ты считаешь, что я ругаюсь?».
Вообще-то говоря, можно и этот этап пропустить или зарезервировать его для случаев, когда вы действительно очень обдумали вопрос или претензию, обдумали предпосылку и точно пришли к выводу, что категорически не согласны с ней и что её точно нужно оспорить. Для всех остальных ситуаций можно начать с того, чтобы попробовать ответить на вопрос, как он есть.
Даже если вам кажется, что предпосылка не соответствует критерию надёжности научного исследования, даже если вам кажется, что человек может ошибаться на ваш счёт, фантазировать, допускать что-то неправильное или неверно интерпретировать то, что наблюдает, – неплохо задаться вопросом, что, может быть, человек действительно что-то увидел со стороны. Не верить на слово, не принимать близко к сердцу, не жить по этому указанию всю оставшуюся жизнь, а всего лишь в масштабах одного обмена «вопрос-ответ» приложить некоторые усилия к тому, чтобы ответить на вопрос или претензию как они есть. А уж потом, если это не привело ни к чему интересному и конструктивному, разбираться с тем, что, может быть, проблема действительно была в предпосылке.
Читать полностью…
Страдай с толком
01 June 2023 21:16
Плохо оценивать ≠ плохо относиться
Оценка и отношение – в значительной степени похожие вещи, иногда употребляемые практически как синонимы, но между ними всё же есть различие. Когда мы говорим об оценке, особенно чего-то не сильно для нас значимого, мы в основном говорим о результате соотнесения чего-то с абстрактными ценностями, социальным контрактом или местным представлением о том, что такое хорошо и плохо. Когда же мы говорим об отношении, мы говорим о роли какого-то феномена в нашей жизни. Хотя в целом корреляция между отношением и оценкой может быть очевидна, эти величины не всегда совпадают.
Достаточно часто можно встретить, и это не какое-то экзотическое исключение, примеры, в которых оценка и отношение расходятся – подчас диаметрально противоположно. Я могу считать, что бессолевая диета – это хорошая вещь, оценивать её как неплохую идею, знать об её влиянии на свой организм, но я в гробу видал сидеть на такой диете.
Менее абстрактный пример. Я могу плохо оценивать какого-то конкретного человека, но при этом неплохо к нему относиться. Я знаю, что этот человек совершает поступки, которые относительно общепризнанной системы ценностей плохие, и я бы не стал поручаться за этого человека, не стал бы рекомендовать с ним общаться, но я сам могу к нему относиться вполне неплохо, строить с ним отношения и хорошо проводить с ним время.
Если это у вас вызывает какое-то несогласие или недовольство, если вам кажется, что это что-то неправильное – хорошо относиться к человеку, которого я оцениваю как плохого, то попробуйте вывернуть ситуацию наизнанку. Возможно ли, по-вашему, плохо относиться к человеку, которого вы считаете объективно хорошим? Это, как правило, более интуитивно доступная мысль. Но если верно это, то, значит, верно и обратное. Если вы можете себе представить, как можно плохо относиться к человеку, который объективно, в общем-то, хороший человек, то вы должны согласиться с тем, что вполне можно иметь хорошее отношение к человеку, который объективно плох в соответствии с местной конвенцией о том, что такое хорошо и что такое плохо.
То же самое относится ко всему остальному, и не только к человеку, но и к любому поведению, любому типу отношений, любому поступку. Я могу знать, что что-то плохо или хорошо, но это не обязывает меня синхронизировать моё отношение к этому со своей оценкой. Человек вправе строить отношения независимо от оценки, а оценивать независимо от отношений. Это может иногда обижать человека по ту сторону («если ты ко мне хорошо относишься, почему ты меня хорошо не оцениваешь?») или удивлять («если ты меня хорошо оцениваешь, почему ты ко мне хорошо не относишься?»), но чужие эмоции – не повод отказываться от своего права так делать.
Читать полностью…
Страдай с толком
27 May 2023 21:16
Регион-бета парадокс
Я очень люблю новые названия старым вещам. Не то, чтобы в психологии их было мало, но я каждый раз радуюсь, когда нахожу очередное. Недавно я наткнулся на понятие «регион-бета парадокс», суть которого состоит в том, что иногда ситуацию может улучшить её ухудшение. Ну, это то, что в русском фольклоре называется «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вообще, это ни разу не новая идея, но прикольно, что её сформулировали в русле модной терминологии, так она ощущается где-то между инструментами уличной эпистемологии и списком когнитивных искажений. Звучит пафосно. Мне нравится.
Суть же старая и простая. Если у вас есть какая-то проблема, и эта проблема терпима, то это плохая проблема. Нет ничего более постоянного, чем временное. Если есть какая-то проблема, к которой вы можете адаптироваться, с которой вы справляетесь, которая отнимает у вас совсем чуть-чуть усилий, но не настолько, чтобы вы перешли всерьёз к её решению, то это плохая проблема. Она будет вам портить жизнь неограниченное количество времени, она даже может со временем ухудшаться, потому что Окно Овертона, все дела. Она может потихоньку двигаться вниз, но каждый раз вы привыкаете к её новому уровню, а она потихоньку двигается ещё дальше, вы снова привыкаете, и так далее. В итоге эта проблема никогда не прорывает потолок, за которым вы бы за неё взялись всерьёз. Но если она всё-таки его прорвёт, если она окажется сильно хуже и нестерпимее, то вы за неё уже возьмётесь.
Собственно говоря, подобное происходит в психотерапии постоянно. Например, когда клиент приходит, и у него плохие отношения с женой, психолог шерудит в них палкой и говорит: «А давай-ка ты всерьёз выскажешь ей то, что думаешь, скажешь о том, чего хочешь, и предъявишь претензии». И если после этого оказалось, что отношения с женой стали ещё хуже, то, по крайней мере, у него не остаётся иллюзий по поводу того, что ну, может, как-то ещё обойдётся. Вот сейчас замнём, и всё будет хорошо. После этого клиент, наконец, понимает, что ситуацию нужно всё-таки менять более решительно и кардинально. Иногда отношения с партнёром на этом всё-таки улучшаются, иногда они на этом заканчиваются, но, по крайней мере, они выходят из статуса-кво. Выходят из вялотекущего, постоянно ухудшающего жизнь состояния.
Нечастый случай, когда вместо того, чтобы просто отослать вас к гуглу, я сподобился подробно рассказать, но вот делюсь новым пафосным выражением. Регион-бета парадокс – звучит прикольно.
Читать полностью…
Страдай с толком
23 May 2023 21:16
Обвинение других как своя ответственность
Есть распространённое представление о том, что психологи психодинамического направления, да и в целом психологи, предлагают клиентам обвинять других людей и перекладывать на них ответственность за свои поступки. Особенно это видно в контексте детско-родительских отношений, когда очень многие восстают против этого «перекладывания ответственности», мол, как же так можно обвинять других в своих проблемах, я-то, дескать, взрослый человек, чему вы меня учите. И такое работает не только в детско-родительских, а в каких угодно отношениях – в рабочих, супружеских, любовных, романтических, сексуальных, соседских и прочих. Даже когда психотерапия преподаётся молодым психологам, даже когда об этом идёт речь на групповых супервизиях, интервизиях, часто возвращение ответственности окружающим и принятие ответственности на себя рассматриваются лишь как ступени, рядоположенные этапы. В принципе, со стороны это так и выглядит, и об этом удобно в таком ключе говорить: сначала мы отдаём ответственность окружающим, потом берём ответственность на себя. Даже я часто так об этом говорю для простоты. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что, строго говоря, это не совсем верно.
Возвращение ответственности другим – это не рядоположенный феномен с принятием ответственности за себя. То есть это не так, что я вернул ответственность другим, а потом забрал оставшуюся ответственность себе. Это так выглядит, мы так это объясняем клиентам, но только потому, что так проще и такова последовательность действий. Методически под этим лежит несколько другая подложка. Методически мы всё время работаем над возвращением ответственности себе. Просто первая ответственность, которую клиент возвращает себе, – это ответственность за разгрузку себя от чужой ответственности.
Попробую пояснить на примере. Представьте, что Васю поставили начальником отдела, его подчиненные ни хрена не делают, он вместо них бегает и доделывает всё за ними, а потом Вася прошёл тренинг руководительских навыков и пошёл принимать ответственность за то, чтобы быть хорошим боссом. И его ответственность за то, чтобы быть хорошим боссом, будет состоять в том, чтобы заставить подчинённых делать их работу. Со стороны может показаться, если мы проведем аналогию с психотерапией, что он как будто перекладывает свою ответственность на подчинённых. Но, на самом деле, он всего лишь заставляет их делать то, что они и так должны были делать, просто те ленились, а Вася вечно доделывал за них. Когда Вася заставляет окружающих делать то, что они и так должны были, он не перекладывает на них свою работу, он наконец-то делает свою работу. Потому что работа Васи начинается с того, чтобы заставить остальных делать их работу.
То же самое происходит в психотерапии: человек принимает ответственность за качество своей жизни на себя. Первое, в чём это выражается, – он заставляет окружающих делать свою работу в его жизни. Тех, кто заявляет себя близкими людьми, вести себя как близкие люди; тех, кто заявляет себя любящими людьми, проявлять эту любовь так, чтобы это была любовь, а не что-то другое; а тех, кто не справляется с этим, посылать нахер вместе с их неконгруэнтным отношением.
Читать полностью…
Страдай с толком
13 May 2023 21:16
Метафоричное поведение
Исходя из представления о личности как о системе отношений, которая воспроизводится везде, куда бы человек ни шёл, и которая влияет на всю жизнь в целом, можно сказать, что, когда человек совершает поступок в значимых отношениях, последствия этого поступка, как круги по воде, расходятся по всей остальной его жизни. Это же верно, в том числе, если человек не понимает, что он делает, то есть он совершает поступок, не осознавая этого.
Поскольку в Америке психоанализ очень популярен и распространился очень давно, ещё сам Фрейд туда приезжал читать лекции, на сегодняшний день в американской популярной культуре психоаналитические и психодинамические механизмы постоянно упоминаются и используются. Мы можем это увидеть в американских сериалах, начиная от серьёзных и заканчивая ситкомами. Постоянно встречаются ситуации, когда люди занимаются бытовым психоанализом, интерпретируя поведение друг друга. Вася идёт и на кого-то орёт, а потом его лучший друг говорит ему, что «слушай, Вася, ты орёшь не на того, а на самом деле ты злишься на Фёклу, но на неё орать ты не хочешь, поэтому ты идёшь орать на кого-то другого». Подобного рода психоаналитические по своему смыслу интерпретации в бытовом формате в американской культуре встречаются достаточно часто.
В принципе в европейской тоже, в том же Sex Education, но не везде. У нас это пока не столь распространено или, по крайней мере, распространено только в очень специфичной культурной прослойке и в основном в сильно психологизированной, сильно прозападной тусовочке российского общества. Но помимо того, что это можно продолжать распространять и дальше, потому что штука-то полезная, можно помнить о том, что этот механизм, вообще-то говоря, не обязательно требует стороннего наблюдателя. С одной стороны, конечно, психоанализом с самим собой заниматься невозможно. С другой стороны, в некотором смысле стать самому себе психоаналитиком – это результат хорошей психотерапии.
Просто в применении к самому себе это уже перестаёт называться психоанализом и начинает называться рефлексией. Так вот, если вы совершаете какой-то странный поступок, если вы что-то делаете, не очень понимая, почему вы это делаете, или отказываетесь делать, не очень понимая, почему отказываетесь, то можно задаться вопросом «а на что это похоже?». Потому что, вполне вероятно, что в системе значимых отношений обнаружится какая-то похожая по структуре ситуация, в которой изначально возник этот поступок или возникло напряжение, мешающее совершить поступок, а туда, где вы его заметили, оно просочилось в связи с тем, что просто в месте своего истока не разрешилось.
Это не бог весть какой лайфхак, но просто пополнить свою коллекцию вопросов для рефлексии: «на что похоже, то, что я сейчас делаю?», «где ещё я подобным образом себя веду?», «в каких ещё отношениях я совершаю похожий по смыслу поступок или отказываюсь совершить похожий по смыслу поступок?» – может оказаться полезным.
Читать полностью…
Страдай с толком
11 May 2023 19:44
Лекция "Психологические аспекты взаимодействия детей и родителей: отношения, травмы и развитие"
Приветствую всех, кто стремится к глубокому пониманию психологических аспектов детско-родительских отношений! Меня зовут Константин Кунах, я психолог-консультант, выпускник СПбГУ, с повышениями квалификации в областях психологического консультирования, клинической психологии. Я приглашаю вас на уникальную лекцию, которая состоится в рамках “#встречачата” в эту субботу.
Я расскажу:
✏️ о наиболее распространённых ошибках, совершая которые люди травмируют психику ребёнка.
✏️ о том, как формируются созависимые отношения и как именно нарушается развитие здоровых границ в детско-родительских отношениях
✏️что такое эмоциональное насилие и гиперопека
✏️ чем истерика отличается от подлинного страдания
✏️ что можно делать чтобы дать ребёнку лучший шанс на здоровую психику
Чуть подробнее про меня:
✅ У меня большой опыт публичных выступлений в лице спикера Общества Скептиков, Гик-Пикника, Мослектория, Level One, ИЦАЭ, клуба выпускников СПбГУ и т.д.
✅10 лет опыта частной практики, включая проведение психологических групп
✅ Преподавал в Институте Психотерапии и Медицинской Психологии
✅ сейчас преподаю в портале ДПО - провожу повышение квалификации для психологов-консультантов
✅ веду профессиональный блог @
Дата/время сбора: 13.05, 17:30
Место: Kilkenny (Marcelo Torcuato de Alvear 399), 2 этаж
Орг взнос: 1500 песо
Бронирование: @ (при бронировании укажите мероприятие и количество мест)
Читать полностью…
Страдай с толком
11 May 2023 11:01
На открытые консультации осталось 3 места. В этот раз набираем 10 человек, 7 уже оплатили, и но ещё можно вписаться.
Приглашаются психологи, желающие посмотреть, как я работаю и обсудить это со мной. Как, возможно, некоторые из вас помнят, несколько месяцев назад я уже приглашал психологов на открытые консультации. Тот набор прошел успешно, так что через две недели, с 15 мая я запускаю новый поток. Есть небольшие изменения в формате: как и прежде мы будем встречаться по понедельникам, в 19.00 по мск, но в этот раз участникам будет заранее предоставляться доступ к записи консультации, которую можно будет посмотреть в течение недели самостоятельно, а по понедельникам мы будем только обсуждать просмотренное.
Как и в прошлый раз, первая встреча будет посвящена обсуждению личных целей каждого из участников на цикле, индивидуальных сложностей, раздаче советов и подсказок. Эта первая встреча будет длиться 2 часа, последующие - по 1,5 то есть с 19.00 до 20.30 (хотя не исключены задержки, если будет много вопросов). Всего получается 12 встреч: первая для знакомства с участниками, далее обсуждение записи установочной сессии и десяти последующих.
Стоимость - 18 тысяч рублей за все 12 встреч, предоплата полная, но есть возможность оплатить в рассрочку от банка Тинькофф.
Записаться можно по ссылке: https://mariyakunakh.com/consultation_cycle
Цикл пройдет, как и в прошлый раз, в рамках Клуба Начинающих Психологов моей жены Марии Кунах. По всем вопросам пишите администратору Клуба (http://t.me/MariyaEryshova).
p.s.: будем смотреть на работу на основе ЛОРПта, проходящую на грани кризисной
Читать полностью…
Страдай с толком
09 May 2023 21:14
Любовь – это хорошо, но она не поможет решить вопрос «Совместный отпуск или раздельный»?
Для этого необходимо учиться разговаривать и договариваться, но с этим часто возникают проблемы, потому что коммуникация в романтических отношениях – это не переговоры двух компаний, где главную роль играет выгода. В романтических отношениях балом правят эмоции и уязвимость.
И если разговаривать о важном (или просто разговаривать) в отношениях стало слишком сложно, а то и просто невозможно, вероятнее всего пара попала в тупик, нахождение в котором неосознанно поддерживается каждой из сторон.
Хорошая новость в том, что из любого тупика есть выход – для этого от вас необходима лишь готовность и мотивация хорошенько поработать над этим, а с остальным поможет Оксана
Оксана Трушина, индивидуальный и парный психолог, ведёт канал Мысли великих Оксан об отношениях с собой и партнёром.
На канале Оксаны вы найдёте ответы на многие вопросы об отношениях с точки зрения равноправия и партнёрства, практико-применимую информацию про отношения с собой, рассуждения о гендерных проблемах и всё это с нотками юмора и самоиронии.
Несколько постов с канала Оксаны:
Почему «я/мы всё понимаем, но что с этим делать - непонятно»?
«Мы просто слишком разные»: повод задуматься о расставании или наладить коммуникацию?
Лонгрид про моногамные отношения в 3-х частях
Подписывайся /channel/oksanatrushina
#реклама
Читать полностью…
Страдай с толком
08 July 2023 21:16
Нижняя точка ответственности
В долгосрочной динамической психотерапии и психологическом консультировании существует нижняя точка ответственности. Когда клиент приходит, особенно если клиент холодный, нулёвый, до того в психотерапию или в психодинамический подход не ходивший, он весьма вероятно тащит на себе миллион ответственности. Как правило, ответственности не своей.
Как бы ни звучало контринтуитивно с моими прошлыми текстами, первое время жизнь клиента в рамках психотерапии становится легче. В зависимости от ресурсности, травмированности клиента, мотивации и других факторов это может быть от пары сессий до пары лет в совсем непростых случаях. Это будто бы выглядит весьмо противоречиво, с учётом того, что я постоянно говорю, что психодинамический подход — это движение навстречу напряжению. Однако, первое время мы с клиентом движемся навстречу напряжению для того, чтобы он преодолевал защиты и сбрасывал с себя лишнюю ответственность. До него доходит, что, оказывается, можно отстаивать свои границы и не брать на себе чужое, доверять окружающим что они сами справятся. Можно возвращать ответственность окружающим за то, чтобы они сами справлялись, даже если они не справляются. Можно называть свои травмы травмами, можно говорить о своих эмоциях, уважительно относиться к своим желаниям и потребностям. И с каждым следующим инсайтом и перестроением системы отношений клиент несёт всё меньше ответственности на себе, и всё больше отдает её другим. Так происходит до тех пор, пока чужой ответственность в его жизни не заканчивается. Это и есть нижняя точка ответственности.
К этому времени жизнь клиента, как правило, весьма улучшилась, но, по-хорошему, на этом не надо останавливаться. Хотя, конечно, в этой точке происходит обрыв значительного количества кейсов. Клиент попривык, что для него психотерапия – это процесс передачи ответственности окружающим и разгрузки себя от лишней; привык что психотерапия – это процесс скачкообразного, ступенями, через повышение, но всё-таки снижения напряжения. Только за этой точкой начинается уже новый процесс, обратный – процесс возвращения клиенту ответственности за его собственную жизнь. Теперь он с каждым словом, следующим инсайтом, реконструкцией системы отношений несёт на себе всё больше ответственности. Оказывается, что недостаточно обвинить окружающих в каких-то нарушениях его границ, надо ещё выстроить с окружающими такие отношения, чтобы они работали с учётом границ. А если окружающие, до сих пор бывшие рядом, больше не хотят строить отношения, то надо ещё найти других окружающих, возможно, другую работу, другое окружение и пережить существенные пертурбации в своей жизни. Нужно взять на себя ответственность за определённые риски, за инвестиции в себя и сталкиваться с ситуациями неопределённости, при чем под свою инициативу.
Можно, конечно, этого всего не делать и в точке минимальной ответственности и остановиться. И такая жизнь будет гораздо лучше той, что была до психотерапии. Но она не будет включать использование всего потенциала человека, а значит заведомо будет уступать пусть более напряженной и ответственной, но зато гораздо более насыщенной жизни того, что пошел дальше.
Читать полностью…
Страдай с толком
04 July 2023 21:16
Анестезия и компенсация
Когда человек страдает, ему хочется не страдать. Есть два главных способа меньше это делать. Это анестезия и компенсация.
Анестезия – это способ переключить внимание, чтобы избежать страдания. Крайне примитивная техника, достаточно когнитивная по своей природе. Собственно, когнитивисты активно и целенаправленно её используют как форму борьбы, например, с тревогой. Когда человек от чего-то страдает, допустим, он потерял отношения, сейчас в активной фазе горевания, то он часто он ищет что-то, какой-то объект, с которым можно поконтактировать, и контакт с которым будет настолько интенсивным, настолько требовательным к фокусу внимания или настолько растормаживающим чисто психофизиологически, что его прежнее страдание уйдет на второй план.
Это может быть активная деятельность, работа, могут быть танцы, употребление психоактивных веществ. Всякая разная анестезия существует. Можно просто засесть на многочасовой марафон в компьютерную игрушку. Анестезия может быть даже связана с болью. Вполне можно причинить себе другое страдание (потому что страдание отлично фокусирует), и когда будет выбор между какими двумя страданиями распределять внимание, то выбрать менее значимое и более контролируемое. Таким образом позволив себе отвлечься от более значимого. Так сказать, анестезия по методу майора Пэйна.
Обратите внимание, анестезия никак по смыслу не связана со страданием. Можно любое страдание анестезировать одним и тем же способом. Или одно и то же страдание анестезировать миллионом анестезий – не важно. И то, и другое годится.
Компенсация – это какая-то форма удовлетворения потребностей, проистекающая из причины страдания. Допустим, Петя потерял отношения, но зато извлек ценный урок из них. В своих следующих отношениях он не повторит тех ошибок, которые случились там. Компенсация напрямую связана со страданием. Компенсация — это не отказ от страдания, а добавление к своему страданию присвоение своего будущего улучшения. Ощущение того, что, события, вызывавшие страдание, или само страдание, улучшит жизнь в будущем. По крайней мере, преподаст какой-то урок. Придание смысла своему страданию.
Надо ли говорить, что покуда человек хоть до какой-то степени в ресурсе эффективнее пользоваться компенсацией, чем анестезией? Если человек в кризисе и совсем никакой, его размотало, можно пойти анестезироваться, выдохнуть и перевести дух. Но если всё-таки есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах, то гораздо эффективнее отказываться от анестезии и фокусироваться на компенсации. Если найти способ компенсировать себе страдания, найти какие-то следствия у этого страдания, которые потенциально или точно могут улучшить жизнь, то человек перестанет бегать от него и сможет позволить себе его полноценно отреагировать и пережить. А все мы знаем, что полноценно отреагированные и пережитые чувства гораздо лучше анестезированных и вытесненных.
Читать полностью…
Страдай с толком
29 June 2023 21:15
Ложная ретравматизация
В психологическом консультировании есть такой феномен как ретравматизация, то есть повторная травматизация. Суть его состоит в том, что приходит клиент к психологу с какой-то проблемой, и если в его отношениях с консультантом воспроизводится травмирующая ситуация, которая, собственно, и привела к психологу изначально, то таким образом эта травма может дальше укрепляться. Для того, чтобы это произошло, должны сложиться два фактора.
Первый: у клиента должен сформироваться перенос на психолога. То есть он должен поставить психолога в ту же позицию, в которой был источник травмы в его жизни. И клиент должен не заметить этого. Скорее всего, так и будет, если это не профессиональный клиент с опытом многолетнего психоанализа за спиной. Это нормально.
Второй фактор гораздо экзотичнее. Психолог должен впасть в контрперенос, согласиться встать в ту позицию, в которую его толкает клиент, вести себя из неё и тоже не заметить этого.
Сам по себе контрперенос ничего плохого из себя не представляет. Его можно использовать как диагностический инструмент и даже как терапевтический. Но если контрперенос не замечен самим психологом (что случается), то вполне возможна подлинная ретравматизация клиента. Эта ситуация тяжёлая, неприятная, усугубляющая прогноз на дальнейшую психотерапию для этого конкретного клиента, и не улучшающая настроение самому психологу. Особенно, когда он не понимает, что произошло, и ему ещё только предстоит разобраться с этим на супервизии. С другой стороны, есть ситуации, когда клиенты, особенно слегонца обученные, почитавшие что-то по психологии, познакомившиеся со словом «ретравматизация» и понявшие его вульгарно, обвиняют психолога в ретравматизации, когда её нет в помине.
Когда эти клиенты приходят к психологу, то они достаточно скомпенсированы, жизнь у них более-менее налажена, но у них есть какая-то проблема. Психолог, особенно психодинамист, естественно, за эту проблему тянет-потянет и вытащит целое бессознательное. И в этом целом бессознательном – невроз, травмы, базовый конфликт и бог знает что ещё. Клиент, конечно, начинает чувствовать себя гораздо более страдающим, чем в начале, ему кажется, что всё у него в жизни гораздо хуже. И вот тут, если он прошляпил, как они сюда пришли, или просто скатился в сопротивление, он может решить, что это его страдание и есть ретравматизация. Он может возмущаться: «Мне больно, значит, я травмирован, а раз я не приходил таким травмированным, значит, меня травмировали». Только вот нет, это не ретравматизация, а нормальная часть психотерапии. Как в том анекдоте: врачи – хитрые люди, спрашивают у пациента, где больно, а потом туда пальцем тычут. Вот психологи делают то же самое. Если вам больно на сессии с психологом, это значит, что психолог делает свою работу, а не то, что вас ретравматизируют.
Конечно, возникает вопрос, как же тогда отличить ретравматизацию от боли, тем более что в своём переносе клиент примерно одинаково себя ощущает. Хорошего ответа на этот вопрос нет. По-хорошему, это должен замечать психолог (хотя чаще это замечает следующий после него психолог). Но если уж попробовать всё-таки на что-то ориентироваться, то, во-первых, как всегда, как и во всех проблемах в контакте между клиентом психологом, надо обсудить это с психологом. Вполне вероятно, это обсуждение будет продуктивной частью вашей терапии. А во-вторых, если вы уж всё-таки очень сомневаетесь, нет большой беды в том, чтобы сходить к другому психологу с этим вопросом. Вы придёте, скажете: «Я, Вася, хожу к другому психологу и не хочу с ним заканчивать работу, и пришёл просто потому, что мне кажется, что меня ретравмируют. Я переживаю, не так ли это на самом деле». Если вы выберете компетентного психолога (ко мне, например, неоднократно приходили с таким запросом), если вы выберете психолога, который не сфокусирован на том, чтобы обязательно отбить побольше клиентов у коллег и заработать побольше, то вполне вероятно, он вам скажет, что нет, то, что с вами происходит, – нормальная часть работы. Благословит вас идти терапевтироваться дальше.
Читать полностью…
Страдай с толком
27 June 2023 21:14
Даже если вам кажется, что вы работаете с простыми запросами, это не значит, что среди ваших клиентов нет человека с депрессией.
За распространенными проблемами клиентов — прокрастинацией, поиском цели в жизни, трудностями в семейной жизни — часто может скрываться депрессивное расстройство.
Депрессия — одно из самых популярных заболеваний
Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Поэтому психологу важно уметь распознавать депрессивное расстройство и научиться работать с ним: среди ваших клиентов легко могут оказаться люди с этим заболеванием.
Освоить методы психотерапии депрессии можно всего за 2 месяца
На одноименном практическом курсе от «Психодемии».
Вы получите:
🔹 Наработки от профессиональных психологов, которые можно интегрировать в свой подход.
🔹 Навыки диагностики, концептуализации и терапии клиентов с депрессивными расстройствами.
🔹 Пошаговые протоколы работы с депрессивными расстройствами.
Узнайте о курсе больше >>
Реклама ООО "Психодемия" LjN8KBneB
#реклама
Читать полностью…
Страдай с толком
20 June 2023 21:15
Превентивная самокритика
Как учил Ходжа Насреддин: когда вы упали с осла, надо первым громче других смеяться над самим собой, потому что тогда другие не смогут поднять вас на смех. В этой житейской мудрости с Ближнего Востока есть рациональное зерно. Повинную голову и меч не сечёт. Если человек сам над собой смеётся, сам себя критикует, сам признаёт свои недостатки, то это резко снижает агрессию со стороны окружающих, и даёт больше свободы для манёвра в случае, если эта агрессия всё-таки случается. Всегда можно сказать: «Да, да, ты прав. Я же уже и сам это сказал. Остынь». Так что, как некоторую социальную тактику, её можно применять и, может быть, даже полезно.
Проблема, как всегда, возникает, когда этот, неплохой по своей сути, инструмент впитывается и сливается с собственной кожей и плотью, становится частью вашего тела. Когда вы уже смеётесь над собой, критикуете и бежите впереди паровоза, осуждая себя не в какой-то социальной ситуации, не для того, чтобы подстелить соломки, а без всякой необходимости. Когда вы делаете это сами с собой наедине, в кабинете с психологом, рядом с любящим и поддерживающим человеком, который даже и не собирался над вами смеяться, не то что агрессировать в ваш адрес. Вот тогда это перестает быть социальной практикой и тактическим приёмом по манипуляции обратной связью от окружающих и превращается в развитый невротический симптом и в пренебрежительное, насмехательское, издевательское отношение к самому себе. А поскольку вы у самого себя единственный, кто всё время рядом, то иметь рядом с собой того, кто к вам постоянно с пренебрежением и издёвкой относится, не очень полезно для психики, и явно не улучшает качество жизни.
Отсюда: следует обращать внимание на такую практику как у себя, так и у других. Не следует воспитывать её у детей, потому что дети не очень хороши в отделении формального социального поведения от подлинного эмоционально насыщенного поведения. Даже если вы пользуетесь этой практикой и даже если вам кажется, что вы пользуетесь ей успешно, хорошо бы потом анализировать, так ли уж необходимо было в этой ситуации это делать. А ещё лучше – в ситуациях, когда это не является абсолютной необходимостью (а, как правило, это не является абсолютной необходимостью), вообще ей не пользоваться. Когда вы получаете какую-то обратную связь со стороны, она существует не без причины, люди дают вам какую-то обратную связь с какой-то целью. Эволюция не просто так наделила нас этим прекрасным свойством иметь неутолимое желание что-то посоветовать всем окружающим и как-то их оценить. Мы социальные зверушки, это полезно.
Поэтому, может быть, прислушиваться к обратной связи, не демпфируя её подобными приёмами, будет болезненнее, но продуктивнее в долгосрочном периоде.
Читать полностью…
Страдай с толком
17 June 2023 21:14
Не реклама, а личная горячая рекомендация: «Клуб начинающих психологов» приглашает специалистов принять участие в цикле по психиатрии👨⚕️
Кому будет полезен цикл?
🔸 тем, кто каждый раз сомневается, направлять клиента к психиатру или нет
🔸 тем, кто работает с клиентами с психиатрическими диагнозами
🔸 тем, кто хочет увереннее чувствовать себя в диагностике и работе с разными категориями клиентов.
Вот лишь некоторые темы, которые мы рассмотрим:
«Лучше звоните психиатру!»
📌 Совместная работа психолога с психиатром — когда подключать коллегу в работе, как оценивать его эффективность, где искать хороших специалистов
📌 Первый номер или вспомогательный специалист? Оценка роли психолога в ряде психосоматических/психиатрических диагнозов
📌 Недобровольная госпитализация — взгляд с двух сторон: как помочь при госпитализации / рекомендации для пациентов / родственников, если уже оказались в закрытом стационаре
«Расстройства личности — методы диагностики / стратегии взаимодействия»
📌 Особенности установления контакта с пациентами/клиентами с РЛ
📌 Обзор основных психотерапевтических стратегий при работе с РЛ
📌 Психодинамическая модель понимания РЛ на примере работы Нэнси Мак Вильямс
«Такие похожие, но совсем разные. Всё о ПРЛ»
📌 Оценка самоповреждений как диагностический и прогностический этап работы
📌 Роль и место фармакотерапии в работе с ПРЛ
📌 Антисуицидальный контракт и план безопасности — что, когда, зачем и как пользоваться
«От хандры до БАР — аффективные расстройства широкого спектра»
📌 Обзор основных диагнозов из рубрики аффективной патологии: рекуррентная депрессия, БАР разных видов, циклотимия, дистимия, генерализованное тревожное расстройство, панические атаки, тревожный тип личности — как диагностировать, чем лечить, акценты в работе психолога
«Проблемы с едой, когда дело не в еде. РПП — обзор, диагностика, лечение»
📌 Оценка мотивации при обращении к специалисту с РПП-проблематикой
📌 Анорексия и булимия. Роль и место психиатрической / фармакологической помощи при комплексном лечении
📌 Сотрудничество с диетологом / нутрициологом / психиатром, роль психолога во взаимодействии с пациентами с РПП
«Большая психиатрия в консультировании»
📌 Шизо-спектр: шизофрения, шизотипическое расстройство, шизоидное расстройство личности
📌 Особенности сбора анамнеза и установление контакта с пациентами при подозрении на диагноз из большой психиатрии
🗓 Расписание цикла: 6 занятий по четвергам, с 22 июня по 27 июля, 19:00-21:00 по мск
При невозможности участвовать онлайн, возможно приобретение записей встреч ☝️
План каждого занятия:
🔹 Лекционная часть - 1-1,5 ак.ч
🔹 Ссылки на рекомендуемые тесты в работе психологов
🔹 Ответы на вопросы слушателей / разбор клиентских кейсов — от 30 до 60 минут в каждом блоке!
👉 Ведущий: Сергей Мельников - врач-психотерапевт, специализируется на работе с расстройствами настроения, а также с пищевыми расстройствами любого спектра и нехимическими (поведенческими) зависимостями.
💵 Стоимость 1 встречи - 1800 рублей, всего цикла - 9000 рублей за 6 занятий
Также доступна рассрочка от банка на 3, 6 и 10 месяцев.
📝 Узнать подробности и записаться: https://mariyakunakh.com/psychiatrist
Читать полностью…
Страдай с толком
13 June 2023 21:15
Оценка контакта и отношений
Контакт и отношения – совершенно разные термины, хотя содержание их значений, безусловно, пересекаются. То есть, когда два человека в контакте, скорее всего, между ними есть какие-то отношения, если только они не на уровне совсем уж первичного столкновения, когда нет ни контекста, ни ожиданий. С другой стороны, можно сказать, что, если люди находятся в отношениях, между ними, вероятно, существует какой-то контакт. Но это правило уже не столь строго исполняется. Вполне можно быть в отношениях с мёртвым человеком или с каким-то кумиром, который не знает про ваше существование. Вполне можно быть в неторопливых отношениях, в которых контакты возникают раз в пять лет, или быть в неопределённых отношениях, в которых последний контакт был, какое-то время назад и неизвестно, будет ли следующий. Но, тем не менее, статистически большинство отношений всё-таки включают в себя какие-то элементы контактирования с объектом отношений. В связи с этим пересечением, когда человек задаётся вопросом или ему предлагают задаться вопросом, о том какую роль в его жизни играют эти отношения, как он их оценивает или как он к ним относится (мы помним, что отношение к отношению вполне себе легитимный психологический феномен), он может перепутать эти две величины и дать оценку контакту вместо того, чтобы дать оценку отношениям.
Отношения – это обмен ресурсами. Соответственно, отношения и роль отношений в жизни должны оцениваться по тому, сколько и каких ресурсов в эти отношения было вложено, каких и сколько ресурсов из них получено и как этот обмен повлиял на траекторию жизни. Например, можно посчитать сколько времени, денег, сил на это потрачено, что из этого получено.
Контакт – это непосредственный процесс взаимодействия. Он может быть приятным или неприятным, ортогонально тому, насколько это эффективное отношение. Например, отношения с медициной, как правило, одни из самых эффективных отношений в жизни человека. Большинство людей взаимодействуют с медициной мизерную часть своей жизни, и это взаимодействие очень сильно меняет траекторию их жизни. Например, если среднестатистический здоровый человек ломает конечность, то благодаря очень недолгому взаимодействию с медициной, небольшому времени проведения в травмпункте – его жизнь очень сильно улучшается. Он получает обратно те ресурсы, которые, казалось бы, уже потерял, когда ему восстанавливают утраченную функциональность конечности. Это очень выгодные и невероятно эффективные отношения. Что уж говорить про какие-нибудь аппендэктомии, когда человек вообще собирался умереть, и реально умер бы ещё лет сто назад, но сейчас может получить жизнь в обмен на несколько дней в больнице и небольшой шрам в правой подвздошной области. Очень эффективные отношения, но очень неприятный контакт, болезненный, наполненный тревогой и различными новыми редко приятными опытами.
С другой стороны, есть невероятно неэффективные отношения. Самый простой пример – зависимость. Один из критериев зависимости – это бесконтрольная трата, когда человек не может ограничить себя в том, сколько ресурсов он затрачивает на объект зависимости. Это максимально неэффективные отношения, но при этом контакт с объектом зависимости может быть очень приятным.
И где-то между этими двумя экстремальными кейсами находится вся остальная жизнь, в которой контакт с чем-то может быть приятным или неприятным, и это может соотноситься или совершенно не соотноситься с тем, эффективные это отношения или нет. Мораль, как водится, проста: важно быть к этому внимательным, и при оценке каких-то отношений не путать оценку отношений и оценку контакта.
Читать полностью…
Страдай с толком
03 June 2023 21:15
Объём планирования и решимость
Планировать какие-то дела – хорошая штука. Если цель, которая стоит перед человеком, достижима путём прямого движения к ней, и не относится к тем, что невозможно достичь, если идти к ним напрямую (об этом я писал недавно /channel/usepain/480), то составить план – отличная затея. Сесть, поставить цель, разбить на задачи, задачи – на пункты, пункты – на подпункты, распланировать, что будете делать, с какими проблемами столкнётесь, как эти проблемы будете решать, прикинуть, с какими проблемами столкнётесь в ходе решения изначальных проблем и так далее – прекрасно.
Однако, есть одна загвоздка. Может показаться, что чем лучше план продуман, чем больше у него будет пунктов, подпунктов, замечаний, прогнозов, идей и чем больше человек приложит усилий, чтобы спланировать свой путь до заветной цели, тем лучше. Но это далеко не всегда так.
Я предлагаю идею, что объём планирования по количеству усилий, вложенных в него, должен быть пропорционален решимости что-то сделать. Если решимость небольшая (особенно если исчезающе небольшая), то хорошей идеей может быть запланировать первый шаг и сразу пойти его сделать. Даже если очевидно, что это только первый шаг какого-то большого занятия, даже если понятно, что после этого будет ещё миллион других шагов, то всё равно пойти и, по крайней мере, начать уже что-то делать. Потому что если решимость не очень большая, то велика вероятность, что процесс планирования превратится в процесс фантазирования, когда человек будет сидеть и отреагировать в голове всю свою мотивацию; фантазировать о том, как будет хорошо, когда он добьётся результата; фантазировать, как он героически справляется с проблемами и как отреагируют окружающие – и на этих фантазиях потратит всю мотивацию, которая у него и так была еле-еле на донышке. А уж после того, как он посидит час-два-три над каким-то планом, мало того, что он уже будет истощён этим мастурбационным фантазированием, так ещё у него будет ощущение, что он уже приложил какое-то количество усилий по движению в сторону этого дела. Но оно-то и с места не сдвинулось. Он два часа просидел над планом, ковырял тыковку, чесал маковку, а результата никакого. Это всё не улучшит его мотивацию и не увеличит вероятность того, что после этого он пойдёт что-то делать.
Поэтому моя идея состоит в том, что долгое и подробное планирование хорошо только тогда, когда вы уверены в том, что вы будете делать планируемое дело. Если вы уже не первый раз делаете это дело, если вы привыкли так работать, и это очередной ваш проект, за который вы взялись и уверены, что реализуете – ради бога, сидите, планируйте, можете даже месяцами писать детальный план. Если эта мечта всей вашей жизни, и вы точно не свернёте с пути, нет ничего плохого в том, чтобы планировать загодя. Как сказал на предзащите один из членов комиссии у меня на факультете: «Хороший студент выбирает тему диплома в день первокурсника».
Но если это что-то, что вы только подумываете делать, если у вас нет никакой гарантии, что вы приступите к тому гениальному плану, над которым вы корпите, – не стоит вкладывать в него слишком много усилий. Начните с того, чтобы решить, какие минимальные шаги, нужно обдумать прямо сейчас, а потом идите и делайте. Будете планировать, что будет дальше, когда эти шаги уже будут сделаны и когда вы почувствуете, что дело сдвинулось с мёртвой точки.
Читать полностью…
Страдай с толком
30 May 2023 21:16
Невроз как торговля страданием
Есть множество определений невроза, и я думаю только на моём канале уже было штук 10, если не больше. Сейчас хочу рассказать про ещё одну точку зрения, согласно которой невроз рассматривается и трактуется как попытка торговать страданием.
Люди вообще часто торгуют страданием для того, чтобы не нести ответственность за свою жизнь. Есть те, кто пытается купить спасение в обмен на страдание, и хотят, чтобы кто-то прибежал их пожалеть, усадил на коленочки, погладил по голове, сказал, что всё будет хорошо, они ни в чём не виноваты, и сейчас всё порешается. Есть люди, которые пытаются обменять страдание на дополнительные ресурсы, они ставят перед собой невыполнимые цели, страдают в попытке их добиться и надеются, что в обмен на их страдания вселенная снизойдёт и добавит им ресурсов, и они смогут сделать немыслимые вещи. А есть люди, которые страданием пытаются откупиться от необходимости контактировать с реальностью, от необходимости принимать какие-то решения и делать выбор. Люди, более-менее знакомые с неврозогенезом, особенно с теорией ЛОРПт, наверняка могут идентифицировать невротические механизмы и конфликты, стоящие за каждым описанным выше невротическим поведением. Но что общего у этих категорий невротического поведения и невротической организации психики – это попытка причинить себе страдание в обмен на что-то.
Есть люди, которые знают, что им будет лучше, если они сделают какое-то дело, но вместо этого они готовы страдать в обмен на надежду, что всё сделают за них, поэтому не делают ничего. Есть люди, которые знают, что будет лучше лечь, отдохнуть, снизить к себе требования, но они целенаправленно причиняют себе эти страдания, надеясь, что если они будут честно страдать, то им воздастся. А также есть люди, которые знают, что им не сбежать от выбора, но они всё равно соглашаются страдать, выбирают и создают себе страдания самыми разными способами, начиная от банальных, ещё Фрейдом описанных, невротических защит, которые сами по себе можно рассматривать как формы страдания, до активных актов саботажа, анестезии и аддиктивного поведения. То есть чего угодно, лишь бы контактировать со страданием, которое они создали себе сами, а не с реальностью.
Психически здоровый и благополучный человек – это человек, который в каждый момент времени старается сделать свою жизнь лучше. Иногда он причиняет себе страдания, и более того, способность причинять себе страдания – один из критериев психологического благополучия. Отличие только в том, что здоровый человек это делает только для того, чтобы в долгосрочной перспективе снизить количество страданий. Само страдание в этих ситуации не самоцель, а побочный эффект, без которого не удалось обойтись. Если найдётся способ избежать страдания, то психологически благополучный человек, разумеется, воспользуется им, не глядя. А если же человек знает, что есть способ не страдать, но не пользуется им, то это невроз.
Читать полностью…
Страдай с толком
25 May 2023 21:16
Значимые отношения и власть
Значимые отношения требуют власти. Когда мы чувствуем, что кто-то для нас важен, чьё-то поведение сильно сказывается на качестве нашей жизни, на удовлетворении наших потребностей или, по крайней мере, на прогнозах их удовлетворения, у нас возникает потребность этого человека контролировать, как-то на него влиять. И влиять пропорционально: чем больше человек для нас значим, тем больше мы хотим над ним власти. К сожалению, как и большинство процессов нашей психики, эту потребность мы часто не вполне осознаём. Поэтому добиваться ощущения, что мы как-то имеем встречную ответную значимость для другого человека (то есть тоже на него влияем и имеем над ним какую-то власть) мы можем не самыми конструктивными способами.
Мальчики дёргают девочек за косички в школе, дети затискивают домашних зверушек, и есть ещё куча других примеров того, как люди, вообще-то говоря, бесят кого-то другого просто для того, чтобы убедиться в том, что на их действия есть какой-то отклик. Просто, чтобы убедиться в том, что их поведение сказывается на настроении, эмоциях, качестве жизни другого, и тут даже второстепенно, в какую именно сторону сказывается. Первостепенно для нас важно, чтобы мы просто не были пустым местом для значимого и ценного для нас человека или существа. Если мальчик, дёргающий девочку за косичку, вырастет психологически благополучным человеком, то когда-нибудь он может научиться реализовывать свою потребность в виде комплимента и приглашения девочки на свидание. Если ребёнок, тискавший зверушек, вырастет психологически благополучным человеком, то он сможет реализовать свою потребность в общении с животным дрессировкой или хотя бы балованием его, а не только мучением и тисканьем. Но, во-первых, не всем удаётся вырасти психологически благополучными людьми. А во-вторых, помимо этих достаточно простых примеров, есть куча других, в которых не обязательно есть предписанный культурой способ и протокол получения подтверждения собственной значимости для другого. Тут приходится экспериментировать.
Как выяснить, насколько я значим для своего начальника, не показавшись жалким, нуждающимся и зависимым? Как выяснить, насколько я важен для коллеги или приятеля? Как выяснить, рассматривает ли меня другой человек как романтического и сексуального партнёра, не унизившись при этом, не обидев его и не попав в социальный просак? Всё это сложные вопросы, частично решающиеся психотерапией, частично – методом проб и ошибок, а при необходимости – социальным тренингом. Но самое главное во всех этих вопросах, как это обычно бывает в психотерапии, – это поставить перед собой эти вопросы. Потому что до тех пор, пока человек не осознал, что перед ним вообще стоит такая задача, пока не понял, что он, на самом деле, пытается найти способ подтвердить свою значимость для того, кто значим для него, он будет это делать бессознательно. А бессознательно у него это, скорее всего, будет получаться не лучше, чем у пятиклассника, дёргающего одноклассницу за косички.
Читать полностью…
Страдай с толком
20 May 2023 21:16
Недосексуальность
Ох, чувствую, что за этот текст я выхвачу свою порцию хейта, вероятно, даже от коллег. Но я всё-таки позволю себе высказать свою точку зрения, основанную на динамическом понимании секса.
В первую очередь, она состоит в том, что следует отличать секс как близость сиюминутную, вне контекста отношений, то есть коитус, от секса в смысле глубокой эмоциональной привязанности, того, что мы в быту называем занятием любовью. Понимание этого разграничения нужно для того, чтобы не впадать в разные иллюзии, мешающие удовлетворению потребности в сексе, который коитус.
Потребность в коитусе существует, и существует как просто потребность в телесном контакте отдельно от потребности в долгосрочной и взаимной любви. Люди же часто безосновательно ставят себе всяческие препоны на пути удовлетворения этой потребности. Особенно это распространено среди девушек. Некоторые даже этим препонам придумывают названия. Например, сапиосексуальность – это когда я не могу заниматься сексом с человеком, который всего лишь красивый, сексуальный и хорошо ко мне относится. Нет-нет, нужно, чтобы он был семи пядей во лбу. Или демисексуальность – это когда я не могу заниматься сексом с человеком, с которым у меня нет глубокой эмоциональной привязанности. Наверняка, есть ещё различные термины с похожими трактовками, но не буду сейчас в это погружаться.
Пусть меня заклюют за это сексологи, если таковые желающие найдутся, я не претендую истину в последней инстанции. Если вы находите мои слова оскорбительными, не подходящими вам, травматичными для вас и так далее, я вас благословляю покинуть это место и пойти пожаловаться на меня в Чистые Когниции. Без претензий на абсолютную истину, с полным пониманием ограниченности моей сферы компетентности, тем не менее, позволю себе заявить, что подобного рода недосексуальности – это всего лишь формы невротического саботажа удовлетворения своей сексуальной потребности. Это внучатые племянники религиозных табу, следы того, что наше общество, хотя и формально секулярное, всё ещё несёт на себе шрамы авраамических религий. Особенно вот в православии принята ненависть к сексу, к телесным удовольствиям и есть склонность к умерщвлению плоти (если вы не знаете, что это – погуглите). Я считаю, моё скромное мнение, что всё вышеперечисленное ничего общего с глубоким внутренним миром или какой-то особенной изящностью в сексуальных потребностях не имеет. Я считаю, что это формы невроза.
Означает ли это, что надо трахаться с кем попало? Нет. Означает ли это, что глубокая эмоциональная привязанность или интеллектуальное соответствие партнёра не важны? Нет. Это означает, что на безрыбье и кулак – блондинка. Когда у вас нет подходящего партнёра, чтобы с ним выстроить глубокие, осмысленные, с паритетом интеллектуальных способностей, без культурного мезальянса, насыщенные отношения – вполне можно найти себе партнёра для того, чтобы просто потрахаться, и не придумывать себе какой-то ерунды о том, что «ах, у меня какая-то особая форма сексуальности». Нет у тебя особой формы сексуальности, у тебя невроз нелеченый.
Читать полностью…
Страдай с толком
11 May 2023 21:15
Бонусы гендерной роли
Гендерная роль – это одна из наиболее интересных и наименее определённых ролей. Профессиональная роль, роль родителя, роль спортсмена, роль в какой-то игре или роль в театре – достаточно хорошо определены. Примерно понятно, чего ждать от человека, если мы говорим, что этот – охотник, а тот – выпивоха и душа компании. В Африке, Сибири, Северной Америке или в Австралии охотник везде будет охотником, а выпивоха – выпивохой. Мы также сможем распознать руководителя, посмотрев на любую группу людей, и сказать «ага, скорее всего, вот этот – глава группы». Но всегда ли мы сможем распознать, кто здесь настоящий мужчина и настоящая женщина, а кто плохо справляется со своей гендерной ролью? Да мы вообще понятия не имеем. Не то, что в каждой культуре, в каждой субкультуре каждые несколько лет меняются представления о том, кто это вообще такие – настоящий мужчина и настоящая женщина. Помимо всего прочего, ещё каждый сам для себя определяет, с какой субкультурой он себя соотносит, и какой винегрет из запчастей разных культур и субкультур он для себя конструирует в гендерную роль. Это создаёт огромное количество проблем, но это же даёт прикольный бонус, на котором я хочу сфокусироваться.
В гендерную роль можно запихнуть всё что угодно. Есть такие блюда, типа котлет, омлета, пиццы или салата, в которые можно запихнуть что угодно. Вы просто открываете холодильник, загребаете всё, что у вас есть, выкидываете на кусок теста – вот вам пицца. То же самое и с гендерной ролью. В неё можно запихнуть всё то, что вам сложно себе присвоить или включить в свою идентичность. Допустим, вы хотите стать человеком, «который что-то»: который умеет отказывать, или добр по отношению к окружающим, или который хорошо зарабатывает, или позволяет себе себя баловать, или следит за своим здоровьем. Любую черту, которая вам кажется положительной, и которую вы хотите себе заполучить, но у вас не получается, можно включить в гендерную роль. В профессиональную роль так не очень получится, в социальную тоже.
Ну, может быть, в финансовую страту некоторые вещи можно включить. То есть я могу сказать, что мне, как обеспеченному человеку, негоже плохо питаться и иметь легкоизлечимые болезни. Но некоторые вещи не привяжешь к финансовому статусу. Я не могу сказать, что негоже человеку с моим финансовым статусом смотреть сериалы на Нетфликсе. Если я хочу перестать смотреть сериалы и начать читать книги, или, наоборот, забить на литературу и позволить себе отдыхать с сериалами – к финансовому статусу, социальной роли, к возрасту это не особо привяжешь. Особенно сейчас в либеральные времена, когда мне может быть 10-20-30-50-70, я могу в любом возрасте смотреть сериалы, мультики, читать и писать книги.
А в гендерную роль можно запихнуть всё что угодно. Можно сказать себе «я, как настоящий мужчина» или «я, как настоящая женщина» и дальше дополнить это любым продолжением. Можно себе придумать что «я, как настоящий мужчина, должен быть высоко образованным, культурным и эрудированным, и поэтому я буду читать книжки», – и присвоить это как элемент гендерной роли, включить это в свою идентичность и начать этим пользоваться и отращивать эту черту в себе. Или можно сказать, «я, как настоящая женщина, не собираюсь покупаться на чужие истерики и жалеть профессиональных манипуляторов». Почему это женщина должна делать? Нет никакой причины, но можно сказать, что «настоящая леди не покупается на манипуляции», и всё. Любую хрень, которую вы себе придумали в этот бесконечный меняющийся конструктор можно запихнуть в гендерную роль, и она там будет смотреться довольно органично.
Поэтому, друзья, ловите мой от меня лайфхак – хотите себе присвоить какую-то черту, затолкните её в гендерную роль и присваивайте через неё. Это универсальный порт.
Читать полностью…
Страдай с толком
11 May 2023 19:44
Соскучился по публичным выступлениям, вдруг кто неподалёку
Читать полностью…
Страдай с толком
09 May 2023 21:16
Делаешь = хочешь
Я не так давно писал о том, что логика не делаешь = не хочешь порочна, и что есть причины, по которым люди что-то не делают даже при наличии желания. Сейчас же я хочу обратить внимание на то, что в обратную сторону эта логика вполне себе работает.
Если человек что-то делает, он определённо этого хочет. Есть только два исключения: ситуации тяжёлого психоза и судороги. В психозе, даже если человек категорически не хочет что-то делать, он мало способен себя остановить от этого. В ситуации судороги, человек, может, конечно, и не хочет, чтобы у него свело мышцы, но у него их свело, и двигаться он не может. Во всех остальных случаях, если человек не нарушен психиатрически, неврологически или химически, то это поведение является реализацией его желания. Это не значит, однако, что желание человека очевидно. Очень важно понимать, что, когда чукчи хотят поймать рыбу, они не ищут рыбу, они ищут чаек. Этой метафорой я хочу донести идею, что, если человек что-то делает, совсем не обязательно, что он хочет ровно того, что происходит именно сейчас.
Вполне вероятно, что его целью являются последствия его действий, то есть что-то, что произойдёт или не произойдет в связи с этими действиями совершенно неочевидным образом. Школьник, который сидит и корпит над домашним заданием может категорически не хотеть его делать, вообще не хотеть учиться, в гробу видать идею образования в целом и быть вполне удовлетворённым перспективой вместо этого бегать по прериям с острой палкой и охотиться на антилоп. Но чего он в этот момент хочет, делая домашку, так это избежать наказания со стороны родителей. И этого он действительно хочет, у него есть такое негативное (потому что это речь об избегании), но всё ещё желание, которое он таким образом реализует.
Это важно понимать: когда человек что-то делает, он обязательно чего-то хочет, у него обязательно есть цель. Потому что поведение, по определению, интенционально, то есть оно на что-то направлено, к чему-то ведёт, в голове есть какое-то представление о том, чем это действие должно закончиться, и, если человек отрицает это и не признаётся даже самому себе, то, значит, он не понимает своей подлинной мотивации. И это, в принципе, совершенно нормально. Люди постоянно не понимают своей подлинной мотивации, но я считаю, что это повод эту мотивацию поисследовать. Если человек что-то делает и заявляет, что ему не нравится результат, но продолжает, значит, ему нравится результат. Мы просто не знаем, что именно является результатом его деятельности.
Например, Вася говорит, что он ходит в спортзал и пока у него результатов никаких нет, он не научился новым техникам, не отрастил новые мышцы и не растянул себе новые шпагаты, но он продолжает ходить и говорить нам, что просто делает это с отсроченной мотивацией. Но это не так. Если он воспроизводит это действие, значит, он что-то получает уже сейчас. Может, он получает статус человека, который стремится к какой-то цели, и ему может быть достаточно этого статуса. Вполне возможно, что ему даже и не нужна та цель, к которой он хочет стремиться. Вполне возможно, что в гробу он видал быть мастером боевых искусств или бодибилдером или гимнастом, но ему важно по каким-то причинам быть человеком, который тренируется, чтобы быть мастером боевых искусств, бодибилдером или гимнастом. Или ему важно сбегать из дома на какое-то время, или ему нравится, как он себя ощущает после тренировки, просто потому что физическая нагрузка даёт химический буст и выброс эндорфинов.
Но чтобы ни происходило, каким бы ни был результат, мы точно знаем, что, если человек что-то делает, и это произвольное поведение здорового (в психиатрическом и неврологическом смысле) человека, то за этим действием стоит какое-то желание. Возможно, даже не одно. Если человек какое-то действие воспроизводит, то желание удовлетворяется. Мы просто можем не знать, каким именно это желание является.
Читать полностью…
Страдай с толком
06 May 2023 21:16
Непрямые цели
Есть цели, которые невозможно достичь, если идти к ним напрямую. Это кажется парадоксальным и выглядит странным, потому что, казалось бы, универсальная формула движения к целям – это поставить цель, разбить её на задачи, разбить задачи на пункты, идти по ним и решать их – вот вы и пришли к цели. Всё отлично, кроме того, что не всегда это так работает. Есть цели, к которым невозможно прийти, или крайне мало вероятно, что вы к ним придёте, если вы будете ориентироваться ровно на них. Таких целей больше, чем может показаться, и это не какая-то экзотика. Обычно это цели, требующие достижения определённого уровня качества, и количество в них качество не заменяет. Я уже говорил о том, что переход из количества в качество – это туфта, и не работает. Но вот вам ещё одна несколько сфер, в которых не стоит на него покупаться.
Например, заработать много денег. Я имею в виду много денег – заработать в тысячу и в миллион раз больше, чем есть сейчас. Это не та цель, к которой можно прийти, если только на ней фокусироваться. Как правило, большинство людей, которые увеличили свой капитал в тысячу или в миллион раз – это люди, которые, по крайней мере, на каких-то этапах фокусировались на какой-то другой ценности. На качестве, на степени инновационности, на степени клиентоориентированности, на внутреннем смысле деятельности для них. На чём угодно, но не на деньгах. Люди, которые фантазируют только о деньгах, обычно к ним не приходят. Нет, ну они могут заработать сто тысяч, двести, миллион-другой рублей, но не миллион долларов, начиная с нуля.
Другой пример – оргазм. Достаточно распространённый косяк в сексуальной жизни – желание достичь оргазма любой ценой. Есть люди, которым настолько важно достичь или довести партнёра до оргазма, что они лишают себя вообще малейших шансов на то, чтобы это произошло. Они могут попытаться сфокусироваться на том, чтобы обязательно-обязательно возбудиться, и не дай бог, не промахнуться мимо этой цели. Но едва ли они придут к успеху.
Третий пример – успех психотерапии. Казалось бы, за исключением, может быть, какой-нибудь экзистенциально-гуманистической психотерапии, которая на грани с интерактивным философствованием (хотя и там есть какие-то цели и зачем-то это всё делается), во всех остальных видах психотерапии подразумевается, что она нужна ради каких-то результатов. Не существует психотерапии не ради результата. Никто не ходит на неё ради процесса. А если ходит, то это никакая не психотерапия, а развлечение и использование её как формы досуга. Так что закономерен вопрос: как же так получается, что фокусироваться на результате в психотерапии – контрпродуктивно? А вы попробуйте на сессии со своим психологом каждую секунду рефлексировать на тему, прошла ли предыдущая секунда эффективно, и всё ли вы сделали, чтобы она прошла эффективно. Попробуйте задаться целью, без исключения, каждую секунду, каждое слово, каждый вздох, каждое движение посвятить и подчинить одной теме. Чтобы всё было максимально эффективно, ни одного поползновения в сторону, ни одного слова не по делу – только эффективность, эффективность, эффективность. Насколько, по-вашему, будет эффективна такая психотерапия? И таких примеров больше, чем вам кажется.
Можно стремиться к хорошей физической форме – выполнять упражнения и прийти к ней. Можно стремиться к изучению языка – выполнять упражнения, учить какое-то количество слов – и рано или поздно язык выучить. Не так хорошо, как можно было бы, но всё же. Только не везде так. Существует множество целей, к которым, как в Зазеркалье, невозможно прийти, если идти ровно к ним. Их можно получить только в качестве побочного эффекта от чего-то другого.
Читать полностью…
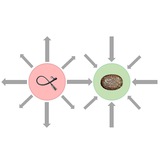
 15880
15880